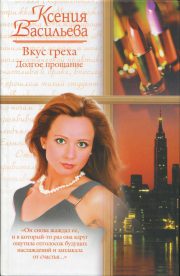Он спокойно произнес это запретное слово — «жена», как бы мелкой украдкой, как подбрасывают крапленую карту во время игры. Ему было необходимо, чтобы ничего запретного не оставалось меж ними, чтобы обо всем можно было говорить.
Вера все правильно поняла, но неожиданно расстроилась: ей бы хотелось, чтобы это слово было запретом, лежало на задворках…
Она коротко ответила на его тираду: «Я верю, Митя».
Небольшая размолвка эта вроде бы ушла, но Митя про себя все еще доказывал себе, кому-то, уговаривал, что помнил Веру там.
Чтобы совсем снять небольшое напряжение, возникшее неожиданно между ними, Вера спросила Митю о его стихах и не покажет ли он ей что-то новое?..
Хуже она ничего не смогла бы придумать!
Он странно недовольным тоном сказал, что сейчас долго искать, как-нибудь потом, а в душе его возникла маленькая злоба — ну, не больше горошины, — на самого себя, раннего, пишущего стихи и песни, выступающего в роли доморощенного Леннона…
— Зачем тебе мои стихи? — спросил он с какой-то подозрительностью. — Тебе мало меня самого?
Она поспешила уверить его, что нет, обратив внимание на некую горечь, прозвучавшую в тоне. Понять она этого не смогла, но тему стихов они оставили.
Митя включил магнитофон, и полилась тягучая восточная музыка. Митя слушал, закрыв глаза.
А Вера почувствовала себя лишней и — более того — постылой. Она подумала, что, если он сейчас же не откроет глаза и не скажет ей хоть слово, она или тихо уйдет, или станет биться головой о стену, — такова его власть над нею.
Он как почувствовал это, открыл глаза и прижался лицом к ее коленям, бормоча: «Прости меня, прости», — слишком горячо шептал он для подобного пустяка.
И она против воли ответила значительно, следуя велению: «Я простила, Митя, я все простила».
И ночь у них была другая — полная нежности, томительной и всепроникающей.
И погода была другой: шел мелкий шелестящий дождь, и тьма долго не уходила, и оттого было уютно, тепло и отделено ото всего мира.
Митя несколько раз за ночь сказал ей — и не во время самого акта: «Я люблю тебя, слышишь?»
Вера была потрясена его превращением и полна любовью к нему, как соты — медом, которые тронь — и прольется сладкий прозрачный тягучий нектар.
Утром он провожал ее молча, без страстей и взрывов, и это вновь удивило ее, но не напугало: это был уже высший этап их отношений. А на работе она подумала о том, что же с ними будет…
Она знала, что его жена с ребенком на Украине. И Митя с женой был вовсе не в ссоре, как поначалу она решила, у них шла нормальная стандартная семейная жизнь, и вполне возможно, Митя любит свою жену Нэлю устоявшейся нормальной любовью.
Эта догадка принесла ей горе, и она не сумела от него отделаться — так и стало оно в ней жить, то разбухая, то съеживаясь до незаметности.
В квартире у Мити целый день звонил телефон: звонили все. Спартак, который работает, оказалось, в АПН, и страшенно хочет увидеть Митю. Они договорились, что обязательно днями встретятся, хотя Митя понимал, что с его стороны — это чистейшая отговорка, все складывалось по-другому. Но со Спартаком все же надо как-то… Как? Митя не знал.
Звонила мама, волновалась, почему он не едет?
Он сказал, что заболел немного — грипп, и как только, так сразу… Мама подуспокоилась, но не поверила, — в голосе это было.
Звонила Нэля, которая не удивилась, что он еще в Москве, и железненьким голосом спросила: «Чего тянешь с поездкой к матери?» И здесь он нужен не столько ей, усмехнулась она, сколько Митеньке, который скучает по нему.
Нэле он сказал то же самое, что приболел и скоро появится везде. Нэля совсем ему не поверила, но, конечно, и помыслить не могла, что в ЕЕ квартире живет другая женщина, которой ее Митя — не ежедневно! — ежечасно! — признается в любви.
И раздался еще звоночек.
Незнакомый женский голосок попросил Вадима Александровича… Что-то в этом голосочке было такое, от чего у Мити сжался желудок…
Риточка.
Его невенчанная очередная «жена». Пока он терялся перед ответом, ему мгновенно подумалось: может, ребенок не родился?..
Митя солидно произнес: «Да, это я, с кем имею честь?..»
— Имеешь честь, а может — бесчестье, говорить с матерью твоей дочери Анны, — ответила насмешливо, но не враждебно Риточка.
С Митей что-то произошло: он обрадовался. Девочка! Анна! Вспомнилась Анна Шимон и девочка, его дочь, представилась очаровашкой лет пяти, красавицей и принцессой… Но нельзя показывать Рите, что он обрадовался, и вместе с тем не злить ее.
И он сказал достаточно мило: «Риточка, дорогая, привет! Так все-таки дочь! Ну, как ты живешь? Что у тебя? Я только что прилетел, даже вещи еще валяются…»
Риточка ему не поверила, только сказала, мог бы уж позвонить, узнать, как и что…
Митя твердо решил, что ограничится разговором по телефону. Но ничего не мог с собой поделать — безумно захотел увидеть маленькую Анну! Ведь это — его дочь!
И когда Риточка сказала, что до встречи ничего рассказывать не будет, он решился: «Хорошо, давай днем, сама понимаешь, — вечером мне не с руки…»
Риточка была согласна на день, и они договорились: в двенадцать часов у Бауманского метро она его будет встречать, а то он их не найдет.
Митя увидел Риточку издали.
Она вполне «смотрелась», слегка пополнена, что ей, несомненно, шло, но за то время, что Митя подходил, ее лицо трижды перекосила судорога.
Мите сделалось не очень комфортно: «Не надо было идти, придурок, подумал он. — Распустил слюни по поводу дочери… Теперь вперед, папаша, раз уж признался!..»
Рита бросилась Мите на шею, — чего он, откровенно говоря, — не ожидал и потому неловко чмокнул ее в щеку. А она тащила его за собой, говоря: «Скорее, наш трамвай, бежим!» И они, запыхавшись, втиснулись в последнюю секунду в плотно набитый трамвай.
Она стояла, прижавшись к нему, — столько было народу! — и кажется, испытывала только удовольствие.
Митя ощущал, как колотится ее сердце и ее грудь упирается прямо ему в лопатку. Раньше у нее вообще груди не было, вспомнил он, но интереса у сексуального Мити эта новая деталь не вызвала, он думал о Вере…
Как сегодня? Сколько времени он пробудет у Риты?.. Надо бы побыстрее…
Какими-то древними улочками прошли они к деревянному трехэтажному домишке, построенному явно в начале века, — с финтифлюшками на коньке крыши, с чугунными витыми столбиками на входе.
— Вот и наш дом, — сказала Риточка, — скоро нас выселять будут, здесь все снесут. Нам из этого района уезжать не хочется…
Они поднялись по скрипучей деревянной лестнице на третий этаж и вошли в отдельную квартиру, странную для такого дома.
В крохотной передней их встретила толстая тетка с опухшей физиономией, за руку с крошкой-девочкой в белом пикейном вышитом платьице, с длинными светло-золотыми кудрями, Митиным носом с горбинкой и его длинными узкими глазами.
Девочка выглядела аристократично, не в пример своей бабушке.
Бабушка улыбалась широко, во весь щербатый рот, а девочка сосала палец и хмурилась — того и гляди сейчас задергается, как мама.
Возникло некоторое замешательство оттого, что, стоя несколько позади Мити, Риточка что-то впихнула ему в руку… Шоколадку! Ах, какой же он! Болван и дрянь! Он же ехал к ребенку!.. Деньги он взял… А вот игрушку ребенку или конфету — на это его не хватило.
Если бы он рассказал Вере, та бы посоветовала, но Вере — про РИТУ? Это невозможно, немыслимо!
Да она бы бросила его тут же, пошляка нечистоплотного… А каков он есть? Так, по чести…
Но его размышления прервала бабушка: она, все так же улыбаясь, протянула лодочкой руку и, поклонившись, представилась: «Раиса Артемовна, бабушка вашей… — она замялась, — нашей Анечки…» «…Так, — понял Митя, — не велено называть меня папой…» Но девочка еще маленькая! Будет постарше — он сам решит, как ей его называть.
Ему захотелось утащить эту очаровательную куклу к себе домой и как-нибудь упросить, умолить наконец! — Нэлю, чтобы она приняла Анну, чтобы жила девочка не в этой развалюхе с пьянчугой бабкой, а у них, с ним, с Нэлей, Митенькой… и называла его папой.