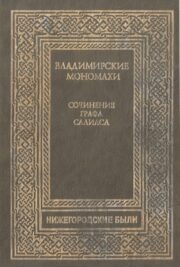Правительственные заказы были частые и важные, на крупные суммы. И Высокские заводы считались самыми аккуратными в поставке.
Доклад конторщика Пастухова, затем доклад и беседа с Барабановым брали ежедневно все время до десяти и одиннадцати часов. Ровно в одиннадцать Аникита Ильич «морил червячка».
В его маленькой столовой подавался завтрак в одно блюдо мясное и одно немецкое, то есть овощи под каким-либо соусом.
С полудня до двух часов шел прием просителей в приемной и в коридоре.
В приемной появлялись и соседние дворяне, и приезжие по делам из столиц и из далеких краев России: и чиновники, и купцы, и всякий люд — не мужик.
В коридоре всегда ждала толпа человек с полсотни, иногда и более — сплошь крестьяне, мастеровые с заводов и мужики дальних деревень. Иногда появлялись и бабы с детьми.
Всякий раб барина Аникиты Ильича имел до него доступ, мог явиться, не спрашиваясь ни у кого, прямо в палаты и «наверх», и объяснить барину свое дело, свою нужду, свою жалобу.
Избави Бог, если б кто из сторожей, сотских[7], заводских смотрителей или конторских вздумал помешать кому-либо идти прямо к барину.
Жалоба «меня допустить не хотели», раз доказанная, имела последствием такое наказание виновного, которое устрашало всякого.
Бывали поэтому случаи жалоб не только на главного управителя Барабанова, или на Масеича, или на приживальщиков, но даже два три раза явились жалобщики на молодого барина Алексея Аникитича за самоуправство и на барышню Сусанну Юрьевну за обиду.
И барин рассуживал тотчас же, призывая на расправу обвиняемого и ставя его рядом с обвинителем.
— Для меня все равны! — говорил он. — Сын родной в неправде какой — ровня предо мной с моим рабом.
Если дело было глупое и нелепое, если жалоба была неправильная, Аникита Ильич рассуживал и вразумлял, но никогда, не только не взыскивал, но даже не говорил ни единого гневного слова.
— Избави Бог серчать! — объяснял он. — Отобьет охоту ходить до меня… и ничего я не буду знать… Будет в Высоксе вместо одного Аникиты Ильича, сто Аникит Ильичев, сто баринов, — и пойдет кровопийство, Шемякин суд, утеснения и гонения, всякие мерзости и народное крестьянское отчаяние.
Разумеется, все дивились, что барин, крайне строгий и суровый, почти злой, добродушно выслушивал самого отпетого дурня-мужика, а то и дурафью-бабу… При этом с «дальними» он был мягче, чем с «близкими». Дворня в усадьбе трепетала чуть не ежедневно… Мужик-дуболом, свинопас или рыбак с озера, не робея, лезли, даже спорили с барином и, поясняя свое дело или жалобу, приговаривали:
— Э-эх, барин, ба-арин. Ничаво ты, видишь, не смыслишь.
— Толком тебе, брат, сказывают…
— Аль тебе не вдолбишь… Слышь-ка… пойми…
Один дальний крестьянин дровосек, никогда не видавший барина в лицо и явившийся однажды с жалобой совершенно бессмысленной, сказал, выслушав суд и доводы Аникиты Ильича…
— Д-да… Вон оно… Стало, все один отвод глазам. Вижу я, ты не барин наш, а тебя вон эти подставили… Ну, погоди же, ерник… Попадется мне барин на улице, я ему все выложу… Он вам за это кожу всем спустит!
Подобные случаи делали Аникиту Ильича веселым и почти добродушным на целый день.
В два часа Басанов, несколько уставший, шел гулять в сад и шагал бодро, шибко, но правильно и мерно, по большой главной аллее взад и вперед. Десять концов по этой аллее, именуемой «Московской», равнялись четырем верстам.
Когда башенные часы готовились бить три часа, казачок Фунька, сопровождавший барина боковой маленькой дорожкой на случай приказания и посылки, подбегал и докладывал:
— Сейчас бить учнут-с…
— Тебя? — изредка спрашивал барин.
Вообще Аникита Ильич любил повторять и повторяться… Иные его поступки, шутки, слова казались ему настолько умными и удачными, что их, по его мнению, следовало повторять.
Когда барин являлся из сада в малую столовую залу, то все были уже в сборе и ждали, стоя кругом накрытого стола, каждый у своего места.
Кто-нибудь из молодых приживальщиков, но чаще всех юный князь Никаев, Юлий, читали молитву… Барин садился первым, все усаживались, когда он уже сидя раскладывал на коленях салфетку.
После обеда все вставали прежде барина, но не отходили, а ждали стоя у своих мест, чтобы он поднялся.
В малой зале ежедневно садилось за стол около тридцати человек домочадцев и приживальщиков. По крайней мере дюжина из них была родней «с боку». Такова была вся семья Ильева, побочного троюродного брата Басанова.
За столом около барина, на левой стороне, всегда садилась красавица-племянница, направо почетный гость, которые не переводились… На место одного уехавшего являлось двое новых.
За столом шел всегда гул и шум. Басанов любил, чтобы все не стесняясь беседовали между собой. Через меру расходившегося и чересчур громко разговаривавшего он, однако, унимал…
— Эй… Что там?.. Ты! Громче кричи. В Питере не слышно! — говорил он, называя провинившегося по имени.
Сын и дочь садились около отца, но ниже племянницы, за ними следовали законные родственники Никаевы и Бобрищева, затем нахлебники из дворян, а затем уже побочные родственники Ильевы и наконец на краю стола — всякая мелкота.
После стола все переходили в большую «желтую» гостиную, в которой подавались всякие сласти, варенья, пряники, наливки, орехи…
У главного подъезда уже ждала барина заморская коляска четверкой великолепных лошадей с главным кучером Игнатом, выезжавшим только с барином. Но коляска появлялась, когда поездка предполагалась дальняя… Когда Аникита Ильич должен был побывать поблизости, за версту, за две, то он выезжал в одноколке[8] и правил сам своей любимой лошадью, серой, старой, начинающей уже слепнуть и спотыкаться… Когда-то очень красивой кобыле, по имени «Солдатка», было теперь уже семнадцать лет.
Объехав те заводы, те деревни или леса, те поля и места, где почему-либо присутствие его было в этот день необходимо, Аникита Ильич возвращался домой не ранее, как через часа два и три…
Сумерки проходили в безделье… Он шел в гости к любимице Санне, к дочери Дарьюшке, к Ильевым, к князю Никаеву…
В восемь или в девять часов, смотря по времени года, был снова стол, ужин.
Но за ужин садилось не более восьми или десяти человек. Все приживальщики ужинали каждый у себя с барской же кухни и получали почти то же самое, что и господа.
VI
Когда Басанов вышел от сына, молодая женщина проводила его за двери, видела, как он вышел в сад в сопровождении Фуньки, и затем вернулась в комнату больного…
Она снова села к нему на кровать, взяла его исхудалую желтую руку в свои и вздохнула, но не произнесла ни слова… Она думала о том разговоре, который прервала своим появлением и уже не в первый, а в четвертый раз… Он думал о том же, но молчал тоже и лежал, закрыв глаза. Прошло с полчаса… Изредка, однако, открыв глаза, он пристально смотрел на нее, и его взгляд принимал странное выражение. В нем была и любовь и скорбь… любовь пылкая и безумная к ней и скорбь, отчаяние, от ясного сознания своего безнадежного положения. Молодой человек и знал и чувствовал, что если душа его все еще кипит, еще способна на все земное, то тело перестает жить, уничтожается, будто тает… Уже часто он не ощущает этого своего тела, а смотрит на него, как на что-то чужое, независимое от него.
И теперь, зная, что он умирает, он продолжал все-таки любоваться этой женщиной, которая пять лет слишком была ему дорога, дороже всего на свете, была его божеством. Ей он отдал лучшие свои годы, отдал и жизнь…
Если бы не она, почем знать, может быть, он был бы теперь все тот же молодой, сильный, счастливый…
Она, нагнувшись над ним, тоже подолгу глядела ему в лицо, в глаза, уныло и грустно. Она тоже любила его много, быть может, более, чем кого-либо когда-либо…
Если он был тенью живого существа, то она, напротив, была воплощением живой, силы и красоты. Это была высокая, стройная красавица с лицом двадцатилетней девушки, а ей было уже двадцать семь. А все то, что она пережила за последние десять лет, могло бы легко сделать ее полу старухой.
Ее сильная пылкая натура не поддалась… Все, что другую подточило бы, сломило бы, для нее было потребностью, нуждой, жаждой, хлебом насущным.