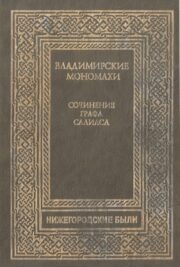Умный Михалис много думал и решил, что Басановы должны просто «умолить» Гончего. В этом одном — спасение.
И однажды Олимпий в сопровождении Михалиса вышел из дома и пешком отправился в домик… Онисим Абрамыч, увидя из окна приближение молодого человека со своим наперсником, рассмеялся раздражительно и гневно:
— И не раз придешь! Пороги обобьешь и ничего не добьешься! — проворчал он.
Через минуту он уже принял молодого Басанова вместе с Михалисом и, усадив их, любезно спросил у Олимпия:
— Не прикажете ли нам вас попотчевать? Хоть я здесь как на перепутьи сижу, пока якобы лошадей кормят, а все-таки у меня кое-что в запасе найдется!
Олимпий поблагодарил, а затем тотчас же перешел к делу.
— Я к вам, Онисим Абрамыч, по нашему делу. Я не хочу верить, чтобы дело это было совсем порешенное, все надеюсь, что вы скажете мне иное слово.
— Не знаю, Олимпий Дмитриевич, — сухо ответил Гончий, — почему вам так кажется! Я переменить намерение мое не могу. Если вы думаете, что я упрямлюсь и хочу мстить вам, то разуверьтесь! Ничего такого нет! Выслушайте меня.
И Гончий холодно-медленно объяснил Олимпию, что, прожив около пятнадцати лет с постоянной заботой о Высоксе, с массой дел, он привык к работе, привык к занятиям. Теперь от бездействия, от пустоты в жизни у него голова кругом пошла, как у иного идет кругом от излишней работы.
— Если мне так продолжать жить, — сказал Гончий, — так я ума решусь! Хоть лбом о стену бей со скуки! И вот одно мое спасение получить мои деньги, купить имение или какие-либо заводы, фабрику и начать работать вдвое больше, чем я работал здесь, чтобы лет через десять увеличить свое состояние вдвое. Зачем? Для кого? Понятно, не ради себя или ради детей, коих у меня нет, а только ради того, чтобы у меня было дело, без коего я жить не могу, без коего я с ума спячу! Оставили бы вы меня править высокскими заводами, я был бы совершенно счастлив. Но понятное дело, что слушаться вас, дела не знающего, и исполнять такие ваши приказания, которые, по-моему, только в ущерб заводам, я бы не мог. И вы были правы, говоря, что под командой вашей я оставаться не могу. Оставить же меня на прежнем основании вы не можете, потому что хотите быть первым лицом и настоящим барином.
Гончий замолчал, и Олимпий заговорил настолько мягко, насколько умел:
— Ведь мы не просим, Онисим Абрамыч, чтобы вы нам этот долг простили. Мы с братом только просим об одном: дать нам передохнуть, не требовать уплаты сейчас же! Еще кабы вы одни, а то ведь в то же время и столица на нас, наместничество тоже грозится. За вами ждали недоимки сколько лет, а теперь требуют. Точно будто у казны уговор какой с кем задавить нас.
— Оно очень просто, Олимпий Дмитриевич. Когда казна знала, что управление находится в моих руках, что все идет порядливо, то казна не боялась. Теперь же, зная, что заводы попадают в руки двух молодых братьев, казна то же думает, что и все в Высоксе. Тотчас же, мол, начнется всякая безурядица, дым коромыслом, и вскоре дела будут в таком положении, что всему конец и никто своих денег не получит. И вот, понятно, как всякий хочет теперь иметь свои деньги, так и казна.
— И вы точно так же думаете, — спросил Олимпий, — что мы двое не управимся? И оттого только якобы вы и требуете тотчас свой капитал?
— Нет, по совести говоря, дело не в этом… Я бы еще и обождал… Но повторяю вам, что мне нужны деньги для того, чтобы в руках иметь сейчас же какое-либо дело. Не будет у меня фабрики какой, ну, буду орудовать в Нижнем. Пущусь во всякие торговые обороты, завалю себя по горло работой и буду орудовать шибко. Так вот, как в картежной игре разные азартные игроки: либо спустил все, либо выиграл кучу. Так и я буду действовать! Беречь мне эти деньги не для чего.
— Стало быть, вы совсем порешили нас погубить? — сказал Олимпий резко.
— Погубить? Нет! А если придется плохо заводам, так ведь и без того им придется плохо позднее. Теперь ли вы будете наполовину разорены, или через год, или через шесть лет, — не все ли вам равно?
— Так предоставьте нашу судьбу нам самим! — вымолвил горячо Олимпий. — Пускай наша судьба решится по воле Божией плохо. От других причин и от других людей! А ведь так выходит, что наша судьба в ваших руках.
— Да! — улыбнулся Гончий и, повернувшись на кресле, он протянул руку в угол комнаты, ткнул пальцем и, рассмеявшись, выговорил: — Да-с, судьба Олимпия и Аркадия Дмитриевичей Басановых тут вот!
Олимпий, а за ним и молчавший Михалис повернули головы. В углу стоял небольшой сундук, красный, обитый красивыми жестяными скобами. Это был подарок Сусанны Юрьевны. Сундук, по прозвищу «голландский», был куплен ею когда-то в Петербурге.
Так как Олимпий, поглядев на сундук, снова взглянул на Гончего, как бы вопросительно и не понимая его слов, то Гончий произнес, странно ухмыляясь:
— Да-с, оно так! Коль скоро вы сказываете, что судьба ваша и вашего братца в моих руках, то я и отвечаю, что оно действительно так. И если не в моих руках, то вот в этом сундучке. И вот как вы свой праздник отпразднуете, так я возьму ключ, который вот у меня здесь всегда…
Гончий полез за ворот рубашки и вытащил черный шнурок, на котором было три образка, маленькое женское колечко и небольшой ключ.
— Как видите, всегда на себе! И вот после вашего празднования я отворю сундучок, положу кое-что в карман и с этим поеду во Владимир, а может, и в Москву, хотя дело это простое. С такими документами хлопот не бывает. Не пройдет и месяцев двух-трех, как вам будет уже приказ мне платить. Смазывать дела в судах я умею, обучился, когда еще ваш батюшка был под судом. Да и старые друзья-приятели, ябедники и крючки судейские, есть у меня в Москве.
— Стало быть, дело решенное? — спросил Олимпий сурово. — Вы нас пожалеть не хотите?
— Не могу, Олимпий Дмитриевич! Я вам объяснил — почему.
— Ну, Бог с вами! сказал Олимпий, поднимаясь.
— Да будет воля Божия! — вдруг громко проговорил все время молчавший Михалис и злобно посмотрел на Гончего.
— Да, истинно так! — отозвался Гончий тоже ехидно.
— Ничего тут не поделаешь! — обернулся Михалис к Олимпию. — Все на свете так: кому какая судьба, так тому и быть должно!
Выйдя из домика, и Басанов и Михалис шли долго молча, но вдруг наперсник расхохотался, а Олимпий, пасмурный и озабоченный, удивленно глянул на него:
— Чего ты? Ошалел, что ли?
— Нет… Ошалел… да не я…
— Чему радуешься? Пошли мириться, умолять да усовещивать, а вместо того хуже поругались… Есть чему смеяться!
— Не могу… Уж больно смешно мне, до чего он прост… Дурак! Прямо петый дурак! — И Михалис снова рассмеялся.
— Чем же это дурак? Злыдень, а не дурак.
— Злыдень, само по себе… а глуп он пуще младенца. Разве можно было этакое колено отмочить?.. Прямо нас обоих взять да носом ткнуть… «Вот, мол, где все… где ваше все счастье и несчастье. Вот, мол, этот сундучок. Ha-те, глядите… Тут, мол, все и лежит. А ключ вот он. С крестами да ладонками завсегда у меня за пазухой». Ах, дубина! Да нешто ключ — документ? Сундук, дубина, за пазухой носи. А нельзя, так помалкивай…
Олимпий ничего из слов друга не понял и удивленно глядел. На его вопросы Михалис ничего не объяснил и, смеясь, махнул рукой.
— Говори, черт окаянный! — вспылил Олимпий.
— И буду говорить. Все скажу, только не сейчас. Дайте мне с самим собой побеседовать еще денек…
— Понял! — вдруг воскликнул Олимпий. — Ты полагаешь, можно его обворовать.
— Как же это? — притворился Михалис удивленным.
— Ты говоришь: ключ завсегда при нем, а бумаги в сундуке. Стало быть, в его отсутствие приходи кто, ломай сундук и воруй. Так ты, Платон, дурак. У него не деньги лежат. С его бумагами никто ничего не поделает… В сундуке что? Завещание Бабаева, векселя или закладная, или иное что в этом роде… Своруй, и он тебя в суд потянет и выиграет дело, а вор улетит, куда Макар телят не гонял. Дурак ты…
Михалис ничего не ответил и будто согласился мысленно.
Однако в тот же вечер, пересидев всех гостей и оставшись один с Олимпием, он заявил ему, что берется устроить все дело по отношению к Гончему. Но в продолжение еще двух дней на все вопросы Олимпия он ничего не объяснил.
Наконец, на третий день, снова оставшись наедине с другом-барином, Михалис заявил, что хочет поговорить о важнеющем деле.