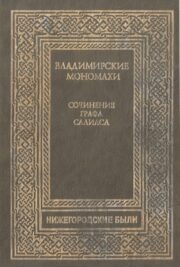— Кто же это? — вскрикнул Аркадий.
— Да хоть бы я!..
Аркадий изменился в лице, побледнел, хотел заговорить, но голос его задрожал.
— Ну, ступай, ступай! — произнес Олимпий. — Нечего злиться! От этой злости только раскиснешь и развоешься.
— Да как ты смеешь со мной так говорить! — вдруг наступая на брата, заорал Аркадий на весь дом.
Олимпий превратился в истукана… Он вытаращил глаза, разинул рот, отступил на один шаг и совершенно не верил, во сне или наяву видит он и слышит.
— Я тебе сто раз горло перережу, прежде чем ты, злая собака, высокский развратитель, злодей, убийца Гончего…
Аркадий наступил еще два шага на брата, а Олимпий снова попятился в том же состоянии оцепенения. Но затем он увидел, что брат схватил себя сам за горло. Действительно, Аркадий едва переводил дыхание и чувствовал, что он сейчас задохнется. И он вдруг махнул рукой на брата и пошел из комнаты нетвердыми шагами, пошатываясь, как слегка пьяный.
Олимпий совершенно невольно, бессознательно двинулся за братом и глядел, как тот шел по соседней комнате, потом по коридору, и тоже шел за ним, все глядя и все спрашивая себя:
«Что это? Кто это? Если это Аркадий, то не сошел ли он с ума? Если он не спятил, то что же это? Откуда же взялся этот Аркадий? И что же будет теперь? С этаким Аркадием вместе владеть всем состоянием и управлять им?»
И, когда брат его исчез, Олимпий остановился среди большого коридора. Если бы кто-либо увидел его в эту минуту, стоящего опустив голову, разводя руками, то, конечно, подивился бы и ничего не понял.
Впрочем, придя в себя через несколько мгновений, Олимпий удивился, что стоит среди коридора, и не знал, зачем он здесь, почему сюда попал. Он озирался. Затем, придя окончательно в себя, он вернулся в свой кабинет и через несколько минут был снова спокоен.
«Стало быть, — думалось ему, — по пословице «в тихом омуте черти водятся»! Но какие черти! Чертенята, бесенята, такие, что баба клюкой десяток перехлопает зараз! Сам разозлился, да сам же и задохся. И теперь, поди, плакать учнет. Не этакие страшны! Не тот страшен, кто с ножом на тебя бросается, со стола его схвативши, а тот, кто при этом ноже тайком ходит».
Но после нескольких минут спокойствия Олимпий в свой черед почувствовал медленный, но сильный прилив гнева, — и гнев не крикливый, не озорной, а спокойный. От такого гнева не задохнешься, а другого тихо задушишь.
Просидев в раздумьи около часу он чувствовал себя еще более озлобленным.
XX
Много передумав о нежданном объяснении с братом, Олимпий пришел к искреннему убеждению, что Денис Иванович давным-давно метил на простофилю брата и искусно подготовил все.
«А почему, — думал он, — брат, не дождавшись даже своего совершеннолетия, явился объяснить свою дурацкую затею? Очень просто».
Змглод прослышал или почуял, что он, Олимпий, хочет теперь обратить свое особенное внимание на его дочь Сусанну. Вероятно Змглоды догадались, что пока он не был полновластным владельцем своего состояния и был под опекой, то не решался действовать открыто относительно девушки, которая ему тоже давно нравилась. Теперь же все переменилось. Не нынче-завтра опеки никакой не будет, и ему стесняться уже не приходится.
Конечно, Змглоды — не крепостные, а вольные, но они живут в Высоксе, и на них привыкли смотреть, как на принадлежащих к заводам и, следовательно, подвластных Басановым.
«Да, наконец, это такое дело, что до суда не доходит, — усмехнулся Олимпий. — Это — не смертоубийство».
Разумеется, прежде всего он пожелал рассказать невероятное приключение своему любимцу Михалису и тотчас же послал за ним. Когда Михалис явился, то нашел Олимпия уже несколько спокойным. Узнав о приключившемся, Михалис удивил своего патрона тем, что был нисколько не удивлен.
— Этого следовало ожидать, Олимпий Дмитриевич! Я так давно полагал! Аркадий Дмитриевич именно такой человек… Совсем не такой, как вы. Вы швыряетесь направо и налево, все меняете свои любовные прихоти. А у него, поди, лет с четырнадцати, с пятнадцати застряла в голове Сусанна Денисовна, да по сию пору и торчит. И поэтому, конечно, он никогда ни на ком не женится, кроме нее. Теперь не допустите, он после женится.
— После? — выговорил Олимпий, подсмеиваясь. — После меня…
Михалис не понял и удивленно смотрел.
— Как после вас? — выговорил он.
— Да так! Нетто он захочет на ней жениться после того, что она станет моей любовницей?
Михалис помолчал, потом потряс головой и произнес едва слышно:
— Напрасно! Есть кого можно трогать, а есть кого и нельзя…
— Как это?
— Так, Олимпий Дмитриевич!
— Что же это? Стало быть, Змглодов мне не трогать? Бояться турки? Холопа?
— Дело не в холопстве и не в Турции. А говорю я вам: есть кого можно трогать, а есть кого и нельзя! Дениса Ивановича трогать опасно. Себе дороже выйдет! Не стоит того из-за смазливой девчонки свою жизнь подвергать опасности. Змглод за свою дочь зарезать может.
— Ну, это, Платон, так сказывается! Резать не так-то легко, да и не меня. Аркашку может зарезать, как курицу, кто захочет. Ну, а меня пускай кто попробует. Я и не с таким, как этот полутурка, потягаюсь!
— Напрасно, Олимпий Дмитриевич! Если хотите мне верить, то бросьте эту затею. Мало ли у вас тут этого добра было, да и будет опять? Вот только за последнее время вы что-то притихли, перестали гоняться за бабьем… Надоели, что ли?
— Как? Как? — почти вскрикнул Олимпий. — Не пойму я, что ты говоришь.
— Я говорю, что у вас столько перебывало прихотей, что вам Сусанна Денисовна, какая ни на есть красавица, не на редкость.
— Нет, не то, не то! Ты сказал, что вот это все время я притих? — рассмеялся Олимпий.
— Да, я сказываю, что вот за это все время, с зимы, вы бросили гоняться за нашими высокскими девицами, и никакой новой приятельницы у вас не было. Надоело, должно быть, или отдых какой себе положили, или дела, что ли, смущают заводские.
— Так, по-твоему, Платоша, я с зимы никакой прихоти не имел?
— Так сдается.
— Ах ты, шут гороховый! — вскрикнул Олимпий. — Все вы вот таковы, один глупее другого… А куда же я верхом-то пропадал? Ты же сам обижался, что я не сказываю, куда езжу. Забыл, что ли?
— Не забыл, да только догадался, куда вы отлучались… И знаю теперь, что это дело было не любовное, а заводское.
— Заводское?!
— Да! И понятно… Зачем вам в своей какой прихоти укрываться? Никто вам в этом перечить не станет. Все, что у вас было, всегда было навиду. После всякой новой приятельницы на другой же день вся Высокса знала, кто она, знала даже, надолго ли. Лучше вас знала! Помню, что про Пашку Барабанову вся Высокса сказала: «Ну эта на три дня!» Так и вышло, на три дня! Стало быть, если вы никогда не таились, то с какого черта стали бы теперь таиться? Да-с, вот что! Вы думаете, я — дурак! Вы вздумали верхом уезжать неведомо куда через забор садовый, что разбирали вам. И это я знаю! Да и не я один, потому что вы все огороды дворовых потоптали конскими ногами. И ездили вы в лес, по дорожке, по которой дрова возят! Да-с! А вы думали, я этого ничего не знаю?!
Михалис усмехнулся и замолчал, а Олимпий сидел, разинув рот, истуканом и как будто даже слегка смущенный. И после молчания он выговорил голосом, слегка доказывавшим волнение:
— Ну, ну… потом?
— Что потом?
— По дорожке этой куда же я ездил?
— Этого я, Олимпий Дмитриевич, не знаю, потому что понятно, за вами не приглядывал. Но говорил мне стряпчий из Владимира, что якобы он к вам с какими-то бумагами приезжал в лес на свидание. И вы совещались с ним, что предпринять и как быть ввиду окончания опекунства.
— Ай-ай-ай!.. — вдруг воскликнул Олимпий. — Ай, батюшки, вон оно что!..
Он рассмеялся, потом смолк, как будто думал о чем-то, потом начал опять смеяться и, наконец, начал хохотать.
Михалис вытаращил на него глаза, и вдруг ему почудилось, что Олимпий издевается над ним…
XXI
Однако объяснение с братом странно подействовало на Олимпия. Чем более он думал, тем более смущался и как-то запутывался. Он приходил поневоле к таким выводам и заключениям, что сам дивился. Не только дивился всему, что приходило на ум, но дивился себе самому.