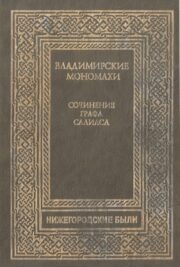— Слышал я это от тебя много раз! — отвечал князь.
— И все то же сказываешь, обещаешь?
— Да. Будь спокоен. Все, что прикажешь, исполню. Хотя бы и трудное, хотя бы и опасное. А ты говоришь, что оно легкое. За Тоню я на смерть пойду.
— Ну, спасибо. Но повторять буду сто раз все то же: будь готов! — со зловещим взглядом, сверкая глазами, говорил Михалис. — Пора нам быть богатыми и счастливыми.
XXVII
Наконец, наступил этот давно ожидаемый день рождения и совершеннолетия.
Празднование было давно подготовлено на все лады и должно было продолжиться три дня… Изобретательный Олимпий напряг все свое воображение, чтобы празднество было блестящим. Михалис помогал ему и придумывал тоже всякое… Так, придумал он между прочим устроить на второй день вечер с ряжеными, как на святках «машкерад». Олимпий делал все, конечно, не для брата, а для себя. Он праздновал свое личное вступление во владение состоянием, хотя пока и вместе с глупым братом.
«Пока!»
Да, эта мысль теперь уже не покидала Олимпия. Михалис сумел давно уничтожить в нем всякое колебание и всякое смущение, тем паче, что брал все на себя, да еще клялся, что он так устроит, что тот скончается вдруг, на глазах у всех, а виновных не будет.
«Как сделает он это? — думалось Олимпию. — Непонятно. Но Михалису нельзя не верить. Он жаден! А документ на обещанные ему еще десять тысяч, выданный ему, действителен условно. Если он ничего не сделает, то ничего и не получит».
За два-три дня до празднества все приглашенные уже съехались, и дом был переполнен. Самые почетные гости были размещены наверху и в комнатах двух братьев, которые потеснились, оставив себе по две комнаты, а остальные переделав в спальни. Некоторых нахлебников внизу совсем перевели из дома, очистив их помещение для менее важных гостей.
Приезжих из губернии и даже из Москвы было до сорока человек, а в их числе было немало лиц, которых братья лично почти не знали. Это были хорошие знакомые, даже приятели их отца, с которыми он подружился, будучи под судом и живя во Владимире. Братья еще детьми видели их всех на похоронах отца.
В самый день рождения Аркадия все поднялось рано и к девяти часам господа, гости, нахлебники, коллегия и канцелярия в полном составе, даже вся дворня — все направились в экипажах и пешком в главный храм к обедне. Служба была торжественная, потому что служил архиерей, приглашенный заранее со своими собственными певчими и с большим штатом священников и дьяконов.
Красивый, блестящий конвой из гусар стоял фронтом пред папертью, а за ним теснилась целая туча народа, рабочих и крестьян, так как работа на заводах была приостановлена на три дня.
По окончании обедни началось молебствие о здравии боляр Олимпия и Аркадия. Рослый и красивый дьякон, с замечательным голосом, своего рода знаменитость во всем округе, провозгласил многолетие… И голос его прогремевший в храме, разнесся и кругом него. В рядах гусар и толпы услышали явственно:
— Мно-о-гая… мно-о-о-гая лета! — подхваченное певчими.
И тотчас вся Высокса, огласилась гулкой пальбой из пушек, расставленных кругом храма.
Возвращение в дом было тоже торжественно. Коляски с двумя братьями, с архиереем и с тремя самыми почетными гостями двинулись шагом, предшествуемые и сопровождаемые гусарами в кафтанах, залитых золотом, и на великолепных конях. Кругом колясок шли скороходы в диковинных разноцветных нарядах с серебром и с киверами на головах, вокруг которых развевались красные перья.
Ничего подобного Высокса еще не видала.
Один из гостей из губернии, тотчас по приезде своем узнав, какое готовится празднование, заметил:
— Ну, этот Олимпий Дмитриевич из всех бывших Мономахов Владимирских будет самый прыткий, «помономашистее» и отца и деда.
После храма началось принесение поздравлений новорожденному… Аркадий смущался и сиял, и только изредка на лицо его набегала тень. Его пугал взгляд брата. Он видел в глазах Олимпия не только ненависть к себе, а какое-то зловещее злорадство.
«Ни дать, ни взять затевает что-то худое, — думалось Аркадию, — и уж, конечно, касающееся Сани».
А красавица Сусанна Денисовна, явившаяся в дом с матерью тоже поздравить молодого барина, была к тому же бледна и печальна. Судьба отца и брата, конечно, поразила ее.
После поздравления все разошлись отдохнуть, но в три часа снова гостиные переполнились, а в зале уже был накрыт стол на семьдесят с лишком человек. Вся Высокса была налицо. Все нахлебники и главные служащие коллегии и канцелярии были приглашены. Только и отсутствовали по-прежнему больная Сусанна Юрьевна и два Змглода.
Обед длился, конечно, долго, а для виновника празднества показался вечностью, так как Олимпий удивил всех и испугал брата, посадив около себя справа архиерея, а слева Сусанну Денисовну… Красавица всячески отказывалась от этой чести, когда все усаживались за стол, но Олимпий настоял упрямо на своем… Аркадий, севший на другом конце стола с двумя почетными гостями, лишился из-за ревности и беспричинной боязни и зрения и слуха. Он никого и ничего не видел и не слышал. Он видел только через весь стол одну свою возлюбленную, с которой Олимпий не переставал любезничать, как бы нарочно, будто напоказ всем, даже будто с тайным умыслом. Красавица Сусанна, печально бледная и видимо смущенная теперь тем, что от него слышит, отвечала сдержанно…
За тем же столом в средине была другая юная красавица, которая была еще печальнее «Змглодушки» и не отрывала глаз от нее и Олимпия. Это была Платонида Михалис.
А в то же время с нее не спускал глаз ее брат, и лицо его выдавало внутреннюю бурю. Платон знал, что его дорогая Тонька страдает.
Когда все поднялись, наконец, из-за стола, Михалис тотчас подошел к барину и выговорил весело:
— Олимпий Дмитриевич… Глядите что?
И он показал в окно на небо.
Сизая хмурая туча надвигалась с горизонта со стороны озера.
Было очевидно, что через час разразится сильнейшая гроза.
— Ох! Обида! — воскликнул Олимпий. — Вся половина дня пропала!
— Зачем! — рассмеялся Михалис. — Сейчас переменим. Гулянье в лодках и иллюминацию отложим до завтра. А сегодня прикажите машкерад.
— Отлично! — воскликнул Олимпий. — Да у всех ли готово ряженье?
— Как есть у всех.
И надвигающаяся гроза, опечалившая всех вдруг, стала причиной особой радости и ликования. Все, узнав, что прогулка отменяется и заменяется ряжением и танцами, только обрадовались… Все, у кого костюмы были еще не в полном порядке, бросились по своим комнатам придумывать, как обойтись или состряпать недостающее что-либо на скорую руку.
Сусанна Денисовна, сильно взволнованная после стола, прощаясь с Аркадием, тихо молвила:
— Я не буду ввечеру: душегрейка[37] еще не обшита галуном.
Аркадий печально поглядел на нее.
— Да и не до того, чтобы рядиться и плясать… Я боюсь…
— Чего? — глухо и испуганно спросил он.
— Так! Боюсь. Он Бог весть что мне болтал. Понять нельзя. Загадки… а страшно… Будто затевает что не сегодня-завтра злодейское!
— И я так-то думаю! Но помните… Помни, Саня, пока я жив, он с тобой ничего не сделает.
Сусанна не ответила и грустно поникла головой. Она не верила.
«Не отстоял отца и брата, — думалось ей. — Стало быть, и меня не отстоит».
В сумерки действительно разразилась сильнейшая гроза и грохотала два часа. Гром гремел и молния, сверкая, падала, казалось, над самым огромным домом. И басановские палаты трепетали будто пугливо под натиском небесного гнева… Стены дрожали, а в стенах, во всех комнатах шла гулко веселая суетня, чуть не сумятица. Все наряжались, а выходя и глядя друг на друга и в зеркало, хохотали до упаду. Только старики охали и крестились.
— Не в пору это скоморошество!.. Грех! Молитву читать надо. И свечу зажечь против грома небесного. И так-то не святки или масленица, а тут еще эта непогода, которая будто гнев Божий показует.
Однако около семи часов все стихло. Небо прояснилось, и после душного дня повеяло благодатною прохладой.
В восемь часов зал и все гостиные были переполнены ряжеными в диковинных масках и образинах. Все друг на дружку дивились. По предложению и по приказу, гостям и своим, заранее придуманному затейником Михалисом и объявленному Олимпием, все заранее тщательно скрывали и никому не показывали своих костюмов и масок. Никто не знал, в чем будут даже оба барина и главные гости.