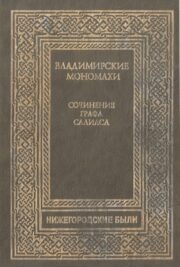— Спасибо, моя прелесть. Нижайший тебе за такую ласковость поклон! — ответил только Басанов.
Но, разумеется, Сусанна тотчас ловко прибавила объяснение:
— Я не про себя… и не про вас… Может, я именно и люблю песий-то запах? Вы что знаете?.. Да потом, я особая такая уродилась. Мне молодые противны… Редко, редко какой приглянется. Да и опять, молодой может постареть, подурнеть… А уж такой то, как вы, без перемены… Вы и в гробу страшнее не будете.
И Аникита Ильич, когда любимец-камердинер или любимица-сожительница так его «горошили», иногда весело смеялся, иногда и кисло…
Басанов, говоря Масеичу, что он никогда его пальцем не тронул, говорил правду. Хотя он «собственноручное никогда никого не наказывал, считая это для себя унизительным, но лакея он даже никогда не наказал простым сидением в «холодной» при полиции, не только розгами. Напротив, он щедро одаривал любимца, у которою был свой собственный домик, каменный с мезонином и садом, подаренный барином.
Камердинер был «Масеичем» и простым, хотя и вольным, дворовым только для Аникиты Ильича; но для всех остальных он был Никифор Масеевич, важная особа, гораздо важнее коллежского правителя Барабанова, не говоря уже о других вроде главного конторщика Пастухова. Многие, им подобные, сменялись и «улетали» по одному слову разгневанного барина. А Никифор Шлыков был уже 30 лет главным «камердином» и любимцем.
Но главное заключалось в том, что когда нужно было замолвить словечко за кого-нибудь, когда нужно было положить гнев на милость или чем пожаловать, или простить, или дело обернуть и в настоящем виде барину представить, то все, кто мог, шли к Никифору Масеичу.
Он — говорили все — знает на барина «такое слово». И, понятно, не колдовством берет, а повадкой… И барин его слушает и слушается.
Разумеется, часто шли в Высоксе и к той особе, которая значила в сто раз больше, чем Масеич, — к «барышне».
Но до барышни было дальше, и ей нельзя было обещать «магарыч». А Масеич не гнушался и за оказанную услугу брал, что по карману давали ему.
У Масеича была целая семья. Жена его, уже пожилая, не сходила с постели и болела, хотя неведомо чем, один день жалуясь на ноги, другой день на руки, на спину или на живот. Старший сын Никита служил не только молодому барину, но и старому, в случае болезни заменяя отца. Дочь его не считалась даже дворовой, а была полубарышней и бывала часто, как ровня, в гостях у барышни Дарьи Аникитишны. Кроме того, было еще человек пять детей всех возрастов, которые ничего не делали и были все очень избалованы отцом.
Масеич был, конечно, привязан к барину, но вместе с тем он был человек странный, непроницаемый… Недаром Басанов знал что-то особое про прежнего донского казака. Однако и все обитатели Высоксы чуяли в нем человека темного происхождения, лукавого, двуличного, очень корыстолюбивого, даже жадного. Приятелей у него совсем не было. Кого Масеич сам любит или не любит, было совершенно неизвестно.
Была, однако, в Высоксе одна личность, которую Масеич ненавидел, готов бы был если не собственными руками придушить, то выдать с головой всякому головорезу. А между тем и этого никто не знал, даже и предполагать не мог. И сама эта личность не знала этого и очень бы удивилась, если бы узнала.
Личность эта была — Сусанна Юрьевна.
Облившись холодной водой, отпилив один кружок, Аникита Ильич вошел в кабинет и, принявшись за обычное свое питье, вспомнил сразу о ночном докладе Змглода.
Обер-рунт доложил нечто про парня Сеньку Лопоухого, что было, по его убеждению, для барина, пожалуй, важнее пожара. Во дворе оказался опять один болтун конюх, болтавший снова «разное неродное» про питье Аникиты Ильича. Опять появились «неподобные» разговоры, что калмычкино снадобье — турецкая «буза», а кто ею набузуется, тому «подавай не одну, а сто жен».
Аникита Ильич тотчас передал все Масеичу и приказал ему распорядиться насчет суда болтуна и расправы. Приготовить графин с молоком, самому снести записку доктору Вениусу, а что тот даст — всыпать в молоко.
Затем, уже в добром расположении духа, Басанов, напившись чаю, велел гнать всех просителей, а конторщикам обождать с докладами. У него было дело важнее.
Аникита Ильич решил идти объясниться с дочерью.
Когда Басанов, пройдя весь дом, явился в комнатах девушки-подростка, Дарьюшка, сильно смутившись, подошла, поцеловала у отца руку, а затем робко подставила голову… Отец нагнулся и поцеловал дочь в лоб, а затем в тысячный или в миллионный раз в жизни проговорил:
— Ох, мала ты… И не растешь. И в кого это?.. Мать покойница была особа с ростом. Я не маленький. А ты вот макарьевского пригона. В князя-деда, что ли?
Затем старик сел и задумался. Он приходил к дочери очень редко и когда являлся, то всегда по поводу чего-либо особенного.
Дарьюшка видала отца поутру, проходя наверх во время его завтрака на минуту, чтобы только поздороваться. Затем она видала его за обедом и иногда, ввечеру, когда Аникита Ильич приказывал осветить все гостиные и всем быть в сборе… Это называлось старым словом «ассамблея».
Но эти вечера, или «ассамблеи», бывали редко, а за последнее время совсем прекратились, потому что главный их устроитель, Алексей, был в постели.
Посидев молча около десяти минут, Аникита Ильич достал свою табакерку с портретом покойной второй жены и, нюхнув, потом потрепав себя пальцем по носу, заговорил:
— Дарьюшка… Ты неразумное дитя, ничего не смыслишь… А все-таки надо мне с тобой толковать о важном деле. Слушай меня в оба… Поняла?