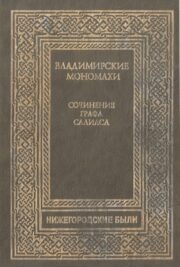Поступив еще при жизни отца в какое-то правление в соседнем городке, Ильев стал даже чиновником и сенатским секретарем, но женился на бедной девушке-сироте, прижил много детей и стал страшно бедствовать. Вскоре после смерти Ильи Михайловича Басман-Басанова, этот побочный сын его последовал за ним.
Но зная, что двое его братьев, двое законных сыновей его отца, стали страшные богачи, он написал им письмо перед смертью, прося не оставить его детей, а их боковую родню, племянников и племянниц…
Аникита и Савва Ильичи относились настолько неприязненно к памяти отца и особенно к ораве его побочных детей, что ничего не отвечали вдове Ильевой. И так прошло лет пять, за которые не только вдова, но и трое детей отправились на тот свет. Оставались в живых только старший сын Василий и младшая дочь Улита.
И однажды на Высоксе появился тихий и скромный человек, уже женатый, с тремя детьми и с девицей сестрой…
Он приехал просить Аникиту Ильича дать ему место писаря в коллегии, так как не только был грамотен, но и мараковал кое-что в счетоводстве и в науках, знал арифметику и даже морской регламент, а не один часослов, как многие дворяне.
Но ни единым словом не обмолвился о том, кто он такой. Уже после согласия барина принять на жалованье к себе писаря-дворянина, он на вопрос об имени и фамилии ответил коротко.
— Василий Ильев.
— Ильев?.. Сын Василья, внук батюшки Ильи Михайловича? — ахнул Аникита Ильич.
— Точно так-с.
Гордый владелец Высоксы задумался…
«Брать ли Ильевых в дом? Что из этого может приключиться? Какие отношения с ними заводить? И родня — и не родня. Сраму нет, а неудобств многое множество».
Однако, кончилось тем, что Аникита Ильич всю семью поселил у себя в доме, не заставив даже Василия Васильевича служить писарем. Он положил ему особое жалованье деньгами и провизией, большее, чем всем другим приживальщикам. Не скрывая ни от кого, что Ильев, собственно, его побочный племянник, Аникита Ильич приказал однако «честь знать».
— Смотри, не зазнавайся. А то прогоню. Коли по урождению я тебе и дядя, то по закону российскому — чужой человек. А по всем прочим следствиям и причинам мы и совсем чужие. Я — первый дворянин на целых два наместничества, пожалуй, даже таких, каких и в России мало сыщется, а ты — нищий. Смотри же! Зазнаешься — в час времени улетишь отсюда.
Ильев отвечал благодарностью и обещанием век помнить и чувствовать благодеяние, превратившее его с семьей сразу из цыган-шатунов в «добрых людей» под кровом и с хлебом.
Впрочем, не столько слова, сколько вид Ильева были порукой. Аникита Ильич сразу увидел и оценил, что за человек этот побочный племянник. Человек тихий, боязливый, добрый, какой-то печальный и если не хворый, то по виду дурак, совсем пришибленный. Последнее определение оказалось ошибочным. Ильев был далеко не глупый человек, но его природная скромность и долгое существование впроголодь с целой семьей придали ему вид малоумия.
Ильевы явились к Высоксу уже лет тому с двенадцать… Маленький мальчик Миша был уже теперь двадцатилетним Михаилом и страстным охотником на медведей, а Аникита Ильич очень любил молодого человека по причине, которой никому никогда не сказал и держал про себя, как великую тайну… Он любил Мишу Ильева потому, что тот по воле судьбы, по игре случая — а может и по всесильному, могучему, но людьми еще неизведанному закону, был вылитый покойник Савва Ильич. Басанов, глубоко любивший брата и хорошо помнивший, каким «Саввушка» был еще в полку, бывал часто поражен, даже смущен сходством.
«Будь не Ильев, а Басман-Басанов, — думал старик иногда, — и я бы, пожалуй, за тебя Дарьюшку отдал».
Старшая дочь Ильева, явившаяся в Высоксе пятилетней девочкой, была теперь семнадцатилетняя, чрезвычайно оригинально красивая девушка, но совершенно не похожая ни на отца, ни на брата. Она уродилась в мать, и, как говорили Ильевы, в бабку со стороны матери… Она-то и смущала теперь Басанова.
Девушка, по имени Алла, была, во-первых, рыжая, с волосами чуть не красными, но, однако, такого чудного золотого отлива, каким блестят только червонцы. Ее лохматая и курчавая головка была именно из червонного золота и блестела еще сильнее, сверкала еще ярче от того, что лицо было молочно-белое, той матовой белизны, которая кажется чуть не белее снега. Большие, добрые и кроткие, темно-серые глаза — глаза отца ее — довершали прелесть и незаурядность фигуры молоденькой девушки.
Наконец, не в подтверждение, а в опровержение принятого убеждения, что все рыжие злы, Алла или Аллинька, как звали ее в семье, была, напротив, чрезвычайно добра, ласкова и даже нежна со всеми и как-то само собой, непринужденно… Казалось, она в действительности всех любит и всех равно. Разумеется, Алла Васильевна была в доме всеобщей любимицей.
— Ильеву барышню, — говорилось в Высоксе, — не только люди, а и все скоты любят.
Это было правдой и последствием того, что к ней, всегда кормившей и ласкавшей чужих собак и кошек, животные ластились больше, чем к своим владельцам.
Но у девушки прелестной и свежей, как только что распустившийся и благоухающий цветок, был один недостаток… Она была не только не прыткая разумом, не только простовата, но совсем почти дурочка, почти «блаженная». Еще «чуднее» Дарьюшки.
Разумеется, в обыденной простой обстановке жизни в Высоксе малоумие молоденькой красавицы проявлялось менее резко, было менее заметно. Многое объяснялось в ее пользу то молодостью и неопытностью, то благодушием…
И этот недостаток, эта простоватость многим и многим сильно нравилась, была по сердцу, даже более… Два человека в Высоксе, видая эту златоволосую, молочно-белую, цветущую молодостью и здоровьем глупенькую Аллу, прельстились ее сугубо… Обоим она внушила одинаковое чувство… Но один глянул на нее хищнически, пожелал овладеть ею ради прихоти, ради того только, что она не похожа на всех других…
Другой же, сам ничего не понимая, что с ним приключилось и когда приключилось, знал и чувствовал только одно, что за эту девушку он пойдет на все!.. Скажи она ему любовное слово и пошли на убийство, — он и на это пойдет!
Первый из них был ей человек не чужой.
Чем была Сусанна Касаткина, тем же была и Алла Ильева для старика Аникиты Ильича. Обе были прямыми внучками, одна по двоюродной его сестре, а другая по побочному брату.
Второй был человек, которого маленькая Аллинька, еще крошкой, а потом уже десятилетней девочкой, боялась как огня… Она кричала и навзрыд плакала от перепуга, когда случайно в доме попадалась ему навстречу с глазу на глаз. А от его приветливого слова или ласки трепетала и обмирала, как если б он был волком или сказочным чудовищем. Зато с четырнадцати лет она стала его любить и все более и сильнее…
Теперь, не понимая сама, как именно она любит это свое страшилище, она любила его более всех и всего… Будь она не «чудная», будь поразумнее, то поняла бы ясно, что страстно любит этого человека, как только может женщина любить мужчину… Равно бы поняла она и ясно увидела, что и он не только страстно любит ее уже года два не как девочку, не как ребенка, но привязался к ней особенно, даже опасно… и по-человечески и по-звериному!.. Это была не привязанность, а бурная и бушевавшая страсть, исход которой — обладание или смерть.
Этот второй человек был молдаванин, обер-рунт Змглод.
А двух людей, менее подходящих друг к другу, трудно бы было найти. Насколько нежна, кротка и простовата была Аллинька Ильева, настолько же был черен, как жук, злобен, как волк, но и умен — Змглод.
Видя их иногда вместе беседующими, все в Высоксе кивали на них и смеялись, подшучивая:
— Черт с младенцем!.. Турка с херувимом!
Оба влюбленные в юную красавицу будто выжидали чего-то, не сказываясь, ни разу не изменив себе и не выдав себя, так что во всей Высоксе не было ни единого человека, который поверил бы, если 6 ему пришли объявить, что суровый барин или злыдень-рунт прельстились Аллой Васильевной.
Сама глупенькая девушка оказывалась, однако, чрезвычайно умна по отношению к своему чувству. Бессознательно и тем не менее очень тонко и хитро скрывала свою любовь от родных… или же совсем не скрывала, сама того будто не зная…
Она звала Змглода «туркой», но желала чаще его видеть, любила с ним болтать часами или за ним следовать, когда он дозором обходил в сумерки весь сад… Началось это уже давно, года с три, и потому все к этому привыкли… Предположить взаимную любовь было немыслимо. Со стороны глядя на «черта с младенцем», разве только какому совсем уж безумному могло бы «такое» на ум придти!..