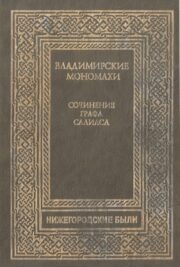И вдруг все рухнуло. Он опять стал для нее конторщиком и крепостным… Угрюмова передала ему приказ барышни ее не беспокоить… Сусанна Юрьевна приказала:
— Сидеть смирно, пока за ним не пошлют, коли вздумается повидать!..
Пока Анька думал, что это простое временное охлаждение, он терпеливо ждал. Но вдруг он убедился, что он замещен, и прихотливо, грубо… Другой на его месте пользуется расположением, а может быть, уже и ласками «барышни», для которой он сам сразу как бы перестал существовать.
Скрываясь теперь от Гончего больше, чем от кого-либо другого, Сусанна и Угрюмова сумели так устроиться, что ему не было никакой возможности узнать, кто был этот счастливый соперник… Два раза Анька среди темноты, вечером, дерзко влезал по столбу на балкон барышни и тщетно глядел через завешенные окна и напрасно прислушивался. Он слышал мужской голос в комнате, где сам бывал недавно запросто, но узнать, кто его заместитель, он не мог. Когда и как появлялся, когда и где выходил этот незнакомец, Анька проведать не мог. Стоять в коридоре настороже у дверей комнат барышни целый вечер или ночь до рассвета он, конечно, не смел. Наконец, однажды Анька узнал, кто его соперник, и пытка от ревности стала еще нестерпимее. Он терял рассудок от бури на душе и, конечно не способный смирно и покорно переносить свое положение отвергнутого, начал чаще и дерзче являться к Угрюмовой, прося, а затем даже и требуя повидать барышню. Но Сусанна не хотела видеть его. Сначала она не принимала его, потому что желала избежать глупого объяснения, а затем при упорстве Аньки она рассердилась и стала отказывать еще упорнее. Наконец, при первой же угрозе молодого малого, переданной Сусанне, она ответила через ту же Угрюмову тоже угрозой — приказать кое-что насчет дерзкого конторщика обер-рунту…
— Коли так, — объявил Гончий наперснице, — то передайте барышне, что я один погибать не хочу… вместе любились, вместе и пропадем пропадом.
Разумеется, эти слова смущали Сусанну, знавшую крутой, непреклонный нрав и предприимчивость своего бывшего любимца.
Вместе с тем однако, хотя она и упорствовала, не раскаивалась в своей жестокости к Аньке… Если бы Гончий взялся иначе и мягче, он снова был бы в милости, так как новый избранник был только забавой и успел ей наскучить, прежде чем она успела окончательно решить вопрос, приблизить ли его к себе… Этот любимец был не высокский житель и не крепостной Басанова, а вновь явившийся вольный человек, выписанный служить по найму.
По воле судьбы Сусанна впервые увидела его и была поражена его красотой на отпевании тела ее Алеши… в то самое мгновение, когда гроб собирались поднять и нести из храма в склеп, певчие спустились с клироса, где были укрыты иконостасом и прошли стать впереди духовенства… В этой веренице человек в двадцать, среди давно знакомых лиц, Санна вдруг увидела незнакомую ей личность. Это был высокий, стройный, светловолосый малый, лет двадцати на вид, с поразительно красивыми задумчивыми глазами… Удивительная тонкость и правильность черт лица, особенное, томное выражение глубоких, темно-синих глаз выделяли молодого малого из кучки певчих и из всей толпы.
После предания тела земле «барышня» тотчас подошла к хору певчих, похвалила их пение за обедней и спросила регента, чей голос свежий, звонкий, сильный покрывал все голоса в «Иже Херувимской»…
Конечно, она это уже знала, сама догадавшись теперь, чей голос слышала.
Регент указал на стройного красавца, сказав, что он — малоросс, ученый певчий, выписанный недавно из Москвы, по имени Тарас Файко…
Барышня похвалила нового певчего, меряя ею хищным взором с головы до пят, но юный хохол глядел на нее или особенно равнодушно и холодно, или же… чересчур простовато…
Не прошло, однако, дней пяти, как он был позван в комнаты «барышни» спеть что-нибудь «божественное» в присутствии барина и молодой барышни Дарьи Аникитишны.
Великолепный тенор, сильный и порядочно обработанный, удивил всех, даже старых девиц Тотолминых, тоже приглашенных слушать.
Сама «барышня» настолько прельстилась голосом Тараса, что вскоре снова раза два приказала позвать его и заставила вечером петь у себя, но уже без гостей… Затем он уже больше вызываем барышней не был и у нее не пел… Однако, его видали мельком в доме и в коридоре, и уже ходил слух, что «старая баловница Анна Фавстовна променяла Аньку на Файку».
Но это было верно наполовину. Сусанна собиралась, колебалась и не решалась… Чем больше и ближе узнавала она Тараса, тем менее был он ей привлекателен, так как отличался невозмутимым спокойствием духа, почти сонливостью.
II
Приближался сороковой день поминок по скончавшемся молодом барине, и вся Высокса снова ожидала прекращения занятий и работ на заводах. Повсюду от барских палат до слободы все население собиралось если не в самый храм, то к храму, к его ограде, постоять во время литургии и помолиться.
Накануне утром, как раз за двадцать четыре часа до начала заупокойной службы, по Высоксе распространилась такая весть, которая всех поразила… Долго потом вспоминали этот день все обыватели…
Рано утром, еще когда Аникита Ильич не кончил пилить и не начинал еще пить калмычкино снадобье, по винтушке явился Змглод и угрюмый, каким он был теперь всегда, доложил барину если не важную, то удивительную весть…
В герберге на рассвете остановился приезжий из губернского города, прибывший на почтовых лошадях… барин, еще молодой, и офицер. Он лег отдохнуть и еще, должно быть, не просыпался… Денщик же его на вопрос Змглода заявил, что барин, офицер гвардии, приехал представиться барину Аниките Ильичу и предполагает проснувшись тотчас идти в дом.
— Чего же ты с этим лезешь по винтушке!.. — рассердился Аникита Ильич… — Докладываешь, когда я еще, видишь, пилю… Что ты — ума решился?
— Потому я порешил поспешить… — начал Змглод, но барин, сердито замахиваясь «голландкой», которую вытащил из бревна, крикнул:
— Когда же это было, чтобы ты бегал докладывать о приезжих, не дав мне одеться и лба перекрестить! Хочешь, пошлю тебя на скотный на неделю коров доить…
— Аникита Ильич, — медленно и сурово заговорил обер-рунт, — коров доить я пойду, коли глуп, а вы дайте досказать. Я еще в разуме своем и знаю, что творю… Дело если не важное, то совсем особое…
— Ну?.. — спокойнее отозвался старик вопросительно.
— Я спросил, по долгу своему, звание и имя приезжего, чтобы доложить вам в обыкновенный час, но солдат ответил, что ему барином строжайше запрещено сказываться… Хоть, говорит, убей, не скажу, кто мы такие… А вот когда мой барин встанет да побывает у вашего барина, то вы все здесь ахнете и зачешетесь, как угорелые… Ну, как я ни бился, ничего не добился… Вот и пришел доложить, что ждет вас внезапу диковина какая-то… а не просто приезжий…
— Умница! Молодец! И был и остался молодцом! — воскликнул Аникита Ильич.
И, бросив пиление, он тотчас прошел в кабинет, весело усмехаясь… Через минуту, не выдержав, он кликнул Масеича и, отпивая свое мутно-белое снадобье, выговорил:
— Масеич… слыхал? А знаешь, кто этот офицер? Зачем приехал?..
— Знаю, — ответил камердинер холодно.
— Ан, врешь! He знаешь!.. И не можешь знать.
— Ан, знаю…
— Врешь, говорю тебе! — вскрикнул Аникита Ильич.
— Не вру, сказываю я вам! — вскрикнул и Масеич.
— Ах, идол упрямый… Так говори, а я молчать буду. Говори. Кто?
— Сынок чей-либо… Из тех, кому вы в Питер писали из-за барышни… Что? — подсмеиваясь ответил Масеич.
Аникита Ильич молчал и улыбался.
— Мудрено, вишь, догадаться… Вы думаете, вы одни на догадку прытки…
— Правда, Масеич… И знаешь, по-моему, кто… который из сынков?.. Завадский… либо князь Устюжский… Ну, что ж, слава Богу. Только давай Бог, чтобы ко двору пришелся… А зря за первого попавшегося гвардейца я Высоксу не выдам замуж, тьфу! то бишь Дарьюшку не выдам…
И Аникита Ильич, несколько волнуясь, не допил свое питье и приказав растворить. все двери, чтобы доступ к нему был тотчас свободен, начал свои занятия делами…
Не прошло получаса, как тот же Змглод явился со стороны коридора и приемной с новым докладом.
— Барин-офицер уже собирается выходить из герберга в полной амуниции… А она такая диковинная, какой я никогда еще, да и никто не видал в Высоксе.