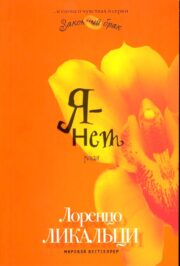Франческо не имел никакого касательства к этой истории. Он был просто пассажир. Мой брат погиб из-за того, что владелец этой гребаной гостиницы не захотел потерять триста долларов!
Но кажется, что в его смерти есть и моя вина. Секретарша моего офиса в Найроби сказала, что в прошлую пятницу Франческо позвонил ей, чтобы узнать, когда я буду в городе. Ну понятно — он летел в Найроби из-за меня, наверняка хотел сделать мне сюрприз, чтобы вместе вернуться в Милан. А как было бы здорово! Он и я, вместе в Найроби после стольких месяцев разлуки! Как много мы могли бы сказать друг другу! Я рассказал бы ему о себе, о малышке Лауре и ее музыкальных успехах, о том, насколько изменилась старшая Лаура, став по-настоящему близкой ему, Франческо, об отце, который в последнее время очень плохо себя чувствует, и мы боимся, что он долго не протянет, о том, что он постоянно спрашивает про него, все время про него, каждый день, каждый день… А он, Франческо, рассказал бы мне о своем путешествии, о людях, с которыми познакомился, обо всем, что делал, думал, слышал. Я уверен, мы поговорили бы и о нас, чего никогда прежде не делали. Я рассказал бы ему о своей ревности, которую испытывал с момента его рождения и позже, когда он рос, когда вся любовь мамы принадлежала ему, а папа — даже папа! — смотрел на него так, как никогда не смотрел на меня, а он этого не замечал. Засранец! Неправда, что он доставлял мне только заботы и раздражение, я знал, что без него моя жизнь была бы совсем иной, и я признался бы ему, что если я в конце концов, чего-то добился, то обязан этим и ему тоже. Потому что, если б не существовало этого чудака, который по любому поводу твердил «я — нет», я никогда бы не говорил «я — да». Мы вместе бы посмеялись, мы могли бы отпраздновать его сорокалетие, которое наступило меньше месяца назад. Мне представилась сцена: мы двое в баре, я в пиджаке и галстуке, он в джинсах и майке… Я говорю, что ему пора подстричься, а он отвечает, что мне пора повзрослеть… Может даже, мы крепко напились бы… Да, нам не помешало бы крепко выпить…
Я думаю о Лауре. Я так и не собрался с духом позвонить ей, может быть, сидя рядом… но чтобы по телефону… нет, не могу. Я думаю о том, как она была счастлива… и думаю, как я все это ей скажу… думаю, когда я ей это скажу… Я думаю о малышке Лауре, я вижу, как она двигается, как разговаривает, как играет на пианино, и внезапно понимаю, до чего она похожа на Франческо, с добавлением прелести Элизы. И я снова думаю о Франческо, и мне представляется неправдоподобным, что его больше нет. Меня приводит в ярость мысль, что я совсем потерял его из виду в эти последние пятнадцать месяцев его жизни. Что он делал?
С кем разговаривал? Испугался ли в те последние секунды, когда понял, что спасения нет? О чем подумал? Кому посвятил свою последнюю мысль? И какой теперь будет моя жизнь без него?
Я сжимаю в руках пластиковый пакет с его личными вещами, так назвал их тот тип из посольства: личные вещи. Все, что осталось мне от Франческо, — это его личные вещи. Их немного: паспорт, браслет из черных кораллов, которого я прежде у него не видел, бумажник и две книги: сборник стихов Йейтса по-английски и томик Кьеркегора «Понятие страха».
В бумажнике сложенная несколько раз страничка из тетради с надписью «для Лауры». Это письмо Франческо, я не стану его читать, как бы мне ни хотелось. Прочтет та, кому оно адресовано. Лаура.
Между страниц одной книги — фотография, сделанная поляроидом: Франческо и незнакомец, абсолютно черный. Они стоят, прислонившись к дверце дряхлого пыльного грузовика. Судя по дате на обороте снимка, он сделан десять дней назад. На нем Франческо выглядит спокойным, улыбается, он в голубой майке и шортах цвета хаки, неожиданно мускулистые ноги, должно быть, ему пришлось много ходить. У него длинные волосы и густая длинная борода. Я никогда не видел его с бородой. Несколько лет назад он отпустил усы, но через месяц сбрил, потому что, как говорил, с ними он похож на мышь. С чуть поседевшей бородой и аскетическими чертами лица он походил на какого-то из греческих философов, которых так любил. И тут же перед глазами видение: его обгоревшее тело. Мне никак не удается избавиться от этого видения. Перед глазами все время его татуировка на плече, которую предательски пощадил огонь. Франческо сделал татуировку, будучи в Африке, больше двадцати лет назад.
Я отлично помню тот день, когда впервые увидел ее: шесть утра, мы оба в ванной. Я брился перед тем, как идти в офис, а он только что вернулся с очередной ночной гулянки и раздевался, чтобы принять душ.
— Что это у тебя на плече? Никак сделал татуировку?
— Ты что, шутишь? Я и татуировка? Подумать только! Я понятия не имею, как это случилось, неожиданно появилось на плече странное пятно в форме вопросительного знака. Еще вчера вечером его не было. Клянусь. Может, меня кто-то заклеймил?
— Перестань строить из себя дурака, скажи лучше — зачем ты ее сделал? И почему именно в виде вопросительного знака?
— По-твоему, тот, кто делает татуировку в виде вопросительного знака, может дать тебе вразумительный ответ?
Эпилог
Двенадцать лет спустя
Лаура
Если бы меня спросили: Лаура, ты чувствуешь себя счастливой? — я бы решительно ответила: нет, не чувствую. Хотя, откровенно говоря, у меня все в порядке: я богата, красива… по крайней мере, так говорят… ухожена, живу в прекрасном доме, вокруг те, кто меня любит, и все же… нет, я не счастлива. Я словно бабочка, которая порхает, порхает, порхает и никогда не останавливается. Только когда я сажусь за пианино и оно звучит так, как я хочу, чтобы оно звучало, только тогда эта бабочка прекращает порхать, она садится на музыку и отдыхает.
О своей матери я ничего не помню… или почти ничего. Какие-то смутные образы и ощущения, которые я толком и не знаю, к кому относятся, к ней или к тете Лауре.
А вот воспоминания об отце связаны со скамейкой, на которой я сейчас сижу. Скамейка именно эта, я ее очень хорошо помню. Сегодня я отправилась на ее поиски и нашла почти сразу же. У меня нет никаких сомнений, что это та самая, на которую мы с ним часто садились отдохнуть и поглазеть на уток здесь, в Центральном парке. Передо мной пруд, точно так же, как тогда, а в пруду утки, так же, как тогда.
Все, кто помнит моего отца, утверждают, что у меня точно такой же характер, как у него. Я не знаю, потому что не могу сказать, какой характер был у моего отца.
Конечно, я его ненавидела… по крайней мере, какое-то время. Когда я в нем нуждалась, после того как умерла мама, и он был мне очень нужен, его не было рядом. Он уехал, чтобы разбиться в Африке. Мир его душе! Сейчас мой отец для меня — выцветшая фотография, музыка на диске и свет, которым лучатся глаза тети Лауры, когда она говорит о нем. Ничего больше.
Лаура многое объяснила, рассказала о многом, думаю, обо всем, что посчитала нужным мне открыть. Она делала это, когда я отказывалась есть, когда капризничала, когда не слушалась, когда плакала. Я давно уже не плачу, у меня не получается. Глядя теперь уже сухими глазами на отношения моих родителей, я понимаю, насколько сильна была любовь, их объединившая, как глубоко они проникли друг в друга. И тем не менее я не могу найти оправдания своему отцу.
Покой его душе! При жизни она его почти не знала.
Лаура заменила мне мать, и я признательна ей за это.
Я ее люблю. Ее жизнь также была полна сюрпризов: когда наконец ей показалось, что она взяла мир под свой контроль, судьба, будто назло, разрушила все ее планы. Но с другой стороны, это к лучшему. С определенной точки зрения, это пошло ей на пользу, потому что сегодня она более спокойна, более естественна. Она, разумеется, страдала, но с достоинством и мужеством. Кажется, она не ощущает свои пятьдесят лет, она по-прежнему красива, еще красива, а морщинки на лице придают ей облик мудрой, энергичной и волевой женщины.
Ей постоянно приходилось вести сражения, которых она не желала. Она должна была победить боль, которую она испытала, когда получила известие о смерти моего отца, должна была воевать со мной и со своими детьми. В основном со старшим, оказавшимся более хрупким. Он намного тяжелее брата перенес развод матери и отца и кончил тем, что подсел на героин. Теперь он живет в одной коммуне и чувствует себя нормально. Говорит, что окончательно порвал с наркотиками. Не знаю, можно ли ему верить, он говорил так и два года назад, и год назад. В отличие от него, младший растет славным парнем. Он — гордость дяди Флавио. Сейчас он, как и я, в Америке, стажируется в Бостонском университете, и Флавио ждет, когда он вернется в Италию и начнет работать в его компании. Думаю, чтобы оставить ее со спокойной душой. Дядя сильно изменился, он больше не похож на рычащего льва, а похож просто на уставшего мужчину. Два года назад у него случился инфаркт, и с того дня он сильно сдал и постарел. Но честно говоря, он перестал быть похожим сам на себя, когда погиб мой отец. И дела его компании идут не так хорошо, как тогда, когда мой отец был жив. Кажется невероятным, но это так. После смерти папы дядя уже не в состоянии работать, как прежде, с той же самоотдачей, как прежде, — и это вовсе не из-за боли утраты, как он признался мне однажды в порыве откровения, а вероятно, потому, что прежде он работал изо всех сил исключительно для того, чтобы что-то доказать своему брату, а когда не стало больше, кому доказывать… Как бы то ни было, компания до сих пор высоко ценится на бирже, и я, должно быть, владею кучей акций, составляющих долю моего отца. Сегодня, когда мне исполняется восемнадцать, я наконец могу подержать их в руках, но не очень-то рвусь, потому что не нуждаюсь в деньгах, деньги никогда не являлись для меня проблемой. Я просто поручила дяде Флавио управлять моей долей за меня, что намного надежнее…