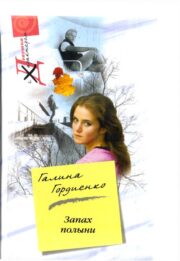Галина Гордиенко
Запах полыни
Глава 1
СНОВА ЭТОТ СОН
Сауле задыхалась от бега. Чужие джинсы, широченные и жесткие, так и норовили сползти с бедер, будто она не просверлила в дорогом кожаном ремне дополнительные дырки. Фланелевая мужская рубаха путалась в коленях. Огромные кроссовки казались неподъемными, Сауле боялась их потерять. Смешно подпрыгивала на ходу, касаясь пальцами шелковистых шнурков, чтобы убедиться — обувь на месте.
В боку мучительно кололо, словно Сауле вогнали меж ребер раскаленную спицу. Сердце билось у самого горла, мешая дышать, его стук оглушал. Непослушные волосы выбивались из-под тяжелой кепки, золотистой паутиной липли к влажному лицу.
Сауле затравленно оглядывалась. Чудилась погоня, и она жалась поближе к тополям, надеясь в их густой тени не слишком бросаться в глаза.
Она спешила к московскому поезду и сходила с ума от мысли: проводница не посадит без билета. У нее же ни копейки с собой, разве только…
Сауле непроизвольно схватилась за уши, нащупывая материнский подарок к совершеннолетию — золотые сережки с жемчугом. Их не было, и Сауле проснулась, мокрая от пережитого и жалкая, как мышонок. Увидела на подоконнике пышный куст китайской розы и расплакалась от облегчения: она не в Чимкенте. Она свободна! Он никогда ее здесь не найдет.
Но страх не отпускал. Кровь с силой била в виски, гул в ушах не давал услышать сонное дыхание маленького Никитки. Сауле до боли в глазах всматривалась в детскую кроватку, пытаясь разглядеть сынишку. С трудом сползла с постели и на подгибающихся ногах побрела к Китенышу. И с горькой улыбкой стекла на пол: мальчик безмятежно спал.
Навязчивый кошмар обессилил Сауле. И она долго сидела у деревянной кровати, рассматривая сквозь слезы неверное свое счастье, единственного родного человечка в этом жестоком мире. В мире, где женщина значит так мало, а ее слезы подобны утренней росе, их просто не замечают.
Дождь лил с утра. Стучал по подоконнику с такой страстью, будто испытывал на прочность барабанные перепонки Сауле. Стекла жалобно дребезжали, лужицы на асфальте жизнерадостно пускали пузыри, молоденькая березка под окном мелко дрожала под тяжелыми каплями.
Сауле поморщилась: здесь, на Вологодчине, она не любила дождь. Никакой. Ни летний, ни весенний, ни осенний. Уж слишком часто они шли. А Сауле нравилось солнце. И синее небо. Чем больше того и другого, тем лучше.
Да, пусть так — раскаленный слепящий шар над головой и выбеленные зноем небеса. И терпкий запах полыни из степи. И мягкий, податливый асфальт под ногами.
И пирамидальные тополя вдоль пыльных дорог. И сладостно поющие арыки на тенистых улицах. И…
Сауле крепко зажмурилась, отгоняя глупые, жалкие, пораженческие мысли — что толку вспоминать детство? Что толку вспоминать крохотный городок в Южном Казахстане со звонким именем Кентау?
Она с горечью улыбнулась: заплаканный мир за окном нагонял тоску, но это ее мир. Кентау же — просто сон. Его нет. В сегодняшнем дне Сауле — точно.
Затихший было дождь припустил с новой силой, поднявшийся вдруг ветер швырнул в раскрытую форточку прохладные колючие капли, Сауле вздрогнула и отпрянула от окна. Рассеянно взглянула на часы и удивленно приподняла брови: два.
Два!
Это ужасно.
Уже два часа, а она все еще дома. Татьяна ее убьет. Обязательно убьет. И правильно сделает. Сауле сменила третье рабочее место, и все нашла для нее Татьяна.
И няню для Кита нашла Татьяна, Сауле до самой смерти этого не забудет, такой няни ни у кого нет, Китенышу повезло.
Сауле тяжело вздохнула, прикидывая свои шансы оправдаться перед ближайшей — нет, единственной! — подругой, но не нашла ни одного и печально поникла.
Она пропала! Ведь ничто не мешало прийти сегодня на работу вовремя. Ничто!
Анна Генриховна зашла за Китенышем в семь тридцать, как обычно. Удивительная старуха ежедневно гуляла по утрам, погода значения не имела. Сауле не сомневалась: падай с неба градины с куриное яйцо, это все равно не отменило бы прогулку. Разве что Анна Генриховна зонт бы с собой прихватила. Есть у нее один, древний и крепкий, как сама хозяйка.
Кит — и прекрасно! — на мать походил мало, просыпался легко и против утренних прогулок не возражал. Сауле казалось, мальчик их даже полюбил. И ждал няню у двери полностью одетым, великодушно давая матери возможность поспать лишние полчаса. Только перед самым уходом подбегал к ней. Гладил по щеке и щекотно шептал в самое ухо:
— Ма, я ухожу, слышишь?
Сауле сонно таращила глаза, притворялась проснувшейся. Анна Генриховна от порога басила:
— Вставай, девка, иначе опять на работу опоздаешь!
— Ма, правда пора, — жалостливо тянул Никита.
— Уже встаю, — послушно лепетала Сауле.
Сегодня она нашла в себе силы почти сразу отбросить в сторону теплое одеяло и сесть. Спустила ноги на пол и зябко поежилась: прохладно.
Успокоенный Кит ушел, а Сауле побрела в ванную, окончательно разбудить ее мог лишь контрастный душ.
И чашечка крепкого чая, Сауле не признавала кофе.
В городе ее детства, Кентау, почему-то предпочитали чай. Черный или зеленый. Лучше со сливками. В маленьких круглых пиалах.
Сауле грустно усмехнулась: на память о Южном Казахстане ей осталось всего ничего: непривычное для слуха северян имя и любовь к чаю. Да, Татьяна бы добавила — и дурацкое воспитание. Чисто восточное, по ее словам.
Хотя почему восточное? Только бабушка Сауле с отцовской стороны была казашкой, разбавив славянскую кровь своей солоноватой и терпкой, местной. Она же подарила Сауле имя.
Как же иначе? Внучка родилась на удивление смугленькой и узкоглазой — истинной казашкой, не Марией же называть?
Бабушка радовалась, что девочка пошла в нее. Горячая южная кровь наконец-то переиграла холодную северную, да и правильно — на улицах маленького городка и без того бегало слишком много белокожих и светлоглазых ребятишек.
Той же осенью старая Шолпан умерла, не успев увидеть, как блеклые младенческие глазки единственной внучки поменяли цвет. По-прежнему приподнятые к вискам и срезанные снизу, с чуть припухшими веками — бабушкины гены все-таки сказывались, — они вдруг стали льдисто-синими, странно искристыми. Как напоминание о далеком Севере, имевшем на маленькую Сауле ничуть не меньше прав.
Диковато смотрелись на смуглом детском личике ярко-синие, изменчивые, как само южное небо, глаза. И светлые волосы, сменившие темный младенческий пушок, густые и кудрявые, выглядели ничуть не менее дико.
Сауле с детства ненавидела собственную внешность.
И чужие взгляды ненавидела. Изумленные, завистливые женские и потрясенные, жадные, неприятно липкие мужские. И терпеть не могла шутливые разговоры соседей о том, какой огромный калым могут получить родители за редкую в их местах Саулешкину красоту.
Сауле страдальчески поморщилась: и они получили свои сребреники. Предали единственную дочь.
Вернее, продали. Не сомневаясь ни секунды, что гораздо лучше знают, в чем ее счастье. Мол, стерпится — слюбится. В богатом доме любому хорошо, а девичья строптивость, как и невинность, явления временные.
И правда, разве Сауле знает жизнь? Что б она понимала, глупая девчонка! Ее дело слушаться…
У Сауле больше нет родителей.
Ни отца, ни матери.
Да и не приняли бы они ее, опозоренную. «Бесстыдно» сбежавшую от будущего мужа с ребенком под сердцем. Когда уже никто не сомневался: теперь-то девчонка не станет противиться — поздно и глупо.
А Сауле взяла да сбежала. Сбежала, когда за ней практически перестали следить, все готовились к свадьбе.
И паспорт мать привезла — куда ж без него? Сунула дочери в руки и, пряча глаза, виновато шепнула:
— Смирись, глупая! Мы с отцом счастья тебе хотим. Пойми, с Нурланом горя знать не будешь, всю жизнь как сыр в масле прокатаешься, деньги считать не придется, так редко кому везет…
Сауле молчала, не поднимая глаз. Ей нечего было сказать. С детства знала: слова ничего не значат. Важны только поступки.
Матери молчание не понравилось. Она ласково провела пальцем по ее щеке:
— Нурлан не жадный. Не представляешь, сколько за тебя заплатил, мы с отцом о такой сумме и не мечтали…