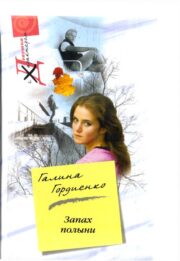Колыванов рассматривал небольшую разделочную доску, повешенную матерью над обеденным столом. Точную копию той, что он видел недавно у Никиты. Только рисунок другой. Вместо маков — пышная пена полевых ромашек над граненым стаканом с надколотым краем.
Колыванов тысячи раз видел эти скромные цветы на обочинах дорог, на газонах или лесных полянах, но только сейчас заметил их непритязательную, нежную красоту.
В природе полевые ромашки как-то не бросались в глаза, теряясь среди пестрого разнотравья.
Он снял доску и задумчиво провел пальцем по расписанной стороне, она была покрыта лаком, как и другая доска, с маками. И рисунки…
Никаких сомнений: рука одна.
Та же изумительная прозрачность крошечных лепестков, так же зримо дрожит прогретый солнцем воздух над букетом, зыбкая тень от стакана падает на ученический тетрадный лист в голубоватую клетку…
— Тебе тоже нравится?
Колыванов улыбнулся неслышно подошедшей матери и кивнул. Галина Николаевна с гордостью сказала:
— Я как увидела, сразу стойку сделала!
— В самом деле, здорово, молодец, что купила.
— Ты же знаешь, в искусстве главное — твое это или чужое, — оживленно пояснила мать. — Я сколько раз была в Третьяковке, а спроси меня, что хотела бы повесить в собственном доме, лишь плечами пожму. Не цепляет, и все!
— А эти ромашки, значит, зацепили?
— Эти зацепили.
— А почему? — с любопытством спросил Колыванов. — Я вот смотрю и не понимаю: ну, ромашки, и что? Ведь ничего особенного! Если честно, я на них никогда внимания не обращал, это же не розы и даже не сирень или гвоздика…
— Я поняла, о чем ты, — задумчиво проговорила Галина Николаевна. — Я тоже как-то об этом думала: почему одна картина оставляет равнодушной, хотя в ней есть все — лесная поляна, скажем, да еще речка через нее бежит или ручей, все красиво, все правильно, как на фотографии. А на другой всего ничего — куст шиповника облетевший да склон горы или вообще кусочек пустыни, а ты стоишь как приклеенный, не можешь отойти.
— И что надумала?
— В первом случае — просто картинка, пусть даже там каждая травинка, каждый листочек тщательно выписаны.
А во втором — вложена душа, вот тебя и притягивает как магнитом… — Галина Николаевна забрала у сына доску и всмотрелась в рисунок. — Пойман момент, передано собственное настроение, по сути, сделан как бы срез настоящего, живого. По принципу — остановись мгновение…
— Да ты, мам, философ!
— Стараемся, — скромно заметила Галина Николаевна. — Ты со мной не согласен?
— Да нет, в твоей теории что-то есть. Эти ромашки действительно как живые…
— На неделе обязательно загляну в магазин. Продавщица сказала: обещали снова принести работы этой художницы.
— Почему — в магазин? — рассеянно удивился Колыванов, не в силах оторвать взгляда от рисунка. — Разве ты не на рынке купила?
— С ума сошел! — весело возмутилась Галина Николаевна. — Когда это ТАКОЕ продавали на рынке?!
Колыванов обернулся к матери, лицо его стало хмурым.
— А где продают?
— Старого Арбата у нас нет, не Москва, как нет и стихийных рынков, галерей, бесконечных выставок-продаж и так далее, — засмеялась Галина Николаевна. — Но зато есть магазин «Народные промыслы», туда я и забегаю время от времени.
— Ты там купила? — угрюмо спросил Колыванов, припоминая недавний разговор. Кажется, Никита радовался пятидесяти рублям за доску, но речь шла именно о рынке, он не мог перепутать. — И сколько заплатила, если не секрет?
— Всего пятьсот рублей, представляешь? — Галина Николаевна смущенно улыбнулась. — Думаю, художница совсем молодая, не знает себе цены…
— Ох не знает, — зло выдохнул Колыванов.
— Конечно, в магазине должны быть эксперты… — виновато произнесла Галина Николаевна.
— Ладно, мам, не бери в голову! Не взяла бы ты, взял бы другой!
Успокоенная Галина Николаевна захлопотала, накрывая на стол, а Колыванов сидел, слепо глядя на полевые ромашки. Размышлял, каким образом они попали в магазин.
Ведь одно дело, если доски туда носит старуха, бессовестно оценившая работу талантливой девчонки в жалкие пятьдесят рублей и теперь наживающаяся. И другое — если подсуетился шустрый покупатель.
Ну, просек он, как из ничего сделать бизнес! Тут уж злиться можно только на глупую и непрактичную мать Никиты.
День выдался самым весенним, такого еще в этом году не выпадало. Ни тучки, ни даже самого крошечного облачка в небе. Яркая синь изливалась на мир вольно и щедро, солнце золотым диском висело над городом, мокрый асфальт курился легким дымком, стремительно сох.
Таня широко шагала по тротуару, за ней вприпрыжку бежала Лизавета. Бультерьер лениво мотался в кильватере, отвлекаясь на всякого голубя или воробья, его обычно сонные глазки возбужденно блестели, кончик носа жадно подрагивал: острые весенние запахи волновали и его.
На Таню изумленно оглядывались прохожие: она выглядела так, словно только что пыталась выкупать в слишком горячей воде десяток кошек.
Хорошо, она себя не видела! Наверняка бы присвистнула и сказала: боевые шрамы, конечно, украшают, но чтоб настолько…
Ее вид, в самом деле, впечатлял: через правую щеку змеились несколько некрасивых рваных царапин, на подбородке кровоточила большущая ссадина, под левым глазом — он практически заплыл — наливался багровым цветом синяк, правый — воинственно горел, распугивая излишне любопытных, светлые волосы напоминали воронье гнездо, так были всклокочены.
Нежно-розовая куртка тоже оказалась в плачевном состоянии: вся в грязных пятнах, оставленных чьими-то безжалостными руками, верхний карман надорван, «молния» сломана, воротник вырван, что называется, с корнем…
Больше всего потрясал прохожих явственный след кроссовки через всю спину — рубчатая подошва отпечаталась с поразительной четкостью!
Лизавета испытующе косилась на новую знакомую. Она до сих пор не могла понять, чего ради послушно бежит за ней ровно ничейная собачонка. Но и уйти была не в силах.
Странная тетка появилась в доме под самое утро. Саму Лизавету в квартире не обнаружила, зато застала мать с сожителем. Они мирно отсыпались после вчерашней пьянки прямо на полу, на засаленном широком матрасе без единой простынки или подушки. Рядом в живописном беспорядке валялись многочисленные бутылки, неопрятно щерились пустые вскрытые банки из-под самой дешевой кильки, повсюду были разбросаны черствые, каменной твердости огрызки хлеба.
Лизавета не знала, что подумала гостья. Но она пинками растолкала хозяев и потребовала предъявить ей ребенка. Причем сию секунду, иначе за последствия не отвечает.
У ранней гостьи — она оказалась на голову выше маминого приятеля — непроизвольно сжимались кулаки, а в глазах светилось что-то такое…
Дядя Петя, ближайший друг и верный собутыльник, мгновенно почуял опасность и тут же исчез. Да так незаметно, что потом Татьяна и сказать не могла — видела ли его.
Мать же спьяну совершенно забыла про лестничную площадку, где у батареи обычно ночевала дочь. Но высоченную наглую девицу узнала и темпераментно высказалась по поводу ее непрошеного вторжения.
Само собой, для начала напомнила, кому именно принадлежит девчонка. Красочно описала, что сделает с негодной Лизкой — если уже не сделала, голова что-то с утра тяжеловата, не вспомнить ничего толком! — как только эта маленькая дрянь здесь появится.
Кто начал драку, Лизавета не знала. Но серьезно подозревала гостью, мать трусовата, на более сильного бы не полезла. Вот на нее, Лизавету, запросто. А на чужого, который может ответить…
Сама Лизавета приплелась к концу разборки. Пришла на поднятый шум, завернувшись в одеяло и безудержно зевая. Кеша неохотно трусил следом, он тоже не выспался.
В родной квартире, к изумлению Лизаветы, находилась милиция. Потрепанная безобразной дракой Татьяна орала так, что крепкие широкоплечие парни в форме лишь переглядывались и стыдливо прятали глаза. Растерянные соседи жались к стенам. Татьяна требовала со всех присутствующих ответа, где ребенок, и не желала слышать никаких оправданий.
Лизавета оскорбленно насупилась: это она-то беспомощная, одинокая малышка?! Это она нуждается в присмотре, теплой постели и ежедневном трехразовом питании?! Это ее Кеша — единственная близкая душа, пусть он всего лишь собака и безрогий крокодил?!