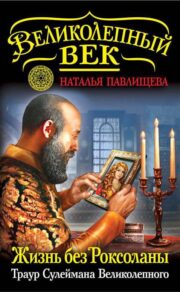Эти беседы стали необходимостью не из-за какой-то особенной разумности Хуррем, они были нужны самому Сулейману не меньше, если не больше, чем необычной наложнице. У Сулеймана было его второе «я» – Ибрагим, об этом знали все. Многолетняя дружба, которая дорогого стоила, блестящий ум грека, возвысивший его из раба до великого визиря, дипломатические способности, умение думать на два шага вперед – все это делало Ибрагима рядом с молодым султаном незаменимым. Иногда казалось, что без мудрого совета друга, без его подсказки не обойтись.
Вот это и подкосило. Ибрагим всегда был на полшага впереди своего хозяина, сначала это казалось замечательным, ведь стоило Сулейману о чем-то подумать, чем-то озаботиться, а Ибрагим уже все предусмотрел, и ответ нашел, и подсказку знает, и договорился с кем нужно, и организовал. Удобно, легко.
Сначала нравилось, при столь толковом советчике, а потом и великом визире правление не выглядело сложным. Будь Сулейман менее умен, не желай он править сам, а не присутствовать на троне, лучше Ибрагима великого визиря не найти бы. Нет, султан вовсе не желал отбивать хлеб у своего советчика, но, даже сам того не сознавая, он стремился додуматься, понять, а не ждать подсказки или готового решения от Ибрагима.
Сулейман славился молчаливыми размышлениями, однако никто не подозревал, что были еще и объяснения. Давно подмечено, что лучше всего человек понимает то, что сумел объяснить другому. Кому султан мог объяснить то, с чем только начинал разбираться сам? У Ибрагима на все готов ответ, совет, предложение.
Но была зеленоглазка, любознательная, въедливая, страстно желавшая не только объятий по ночам, но и доверительной беседы, жаждавшая знаний. Хуррем на ступень, на десяток ступеней ниже, у нее не было не только готовых ответов или советов, у нее знаний не было. И случилось невероятное: султан объяснял любовнице устройство империи, основы своей и чужой внешней политики, расклад сил в Европе и попутно находил решения, которые мог бы подсказать Ибрагим.
Нет, разумный грек вовсе не перестал быть главным советчиком, но все чаще обнаруживал, что хозяин догадался, решил вопрос сам, без подсказки знает, как поступить.
Понял ли Ибрагим, что произошло? Едва ли. Разве мог разумный визирь догадаться, что, беседуя с любопытной наложницей, султан образовывал и себя заодно?
Даже в самом первом походе на Белград, в который ушел совсем скоро после того, как взял себе Хуррем, Сулейман делал невероятное – рассказывал ей в письмах не о соловьях и розах, а о том, каков Белград и что нужно сделать, чтобы навести в этих землях свой справедливый порядок. Она отвечала (!) со своей точки зрения, которая была простой, мол, я помню, что у нас было не так. И это «у нас» не сплетни из гарема, это неумелый рассказ о жизни в родном Рогатине, о недостатках правления, о бедах простых людей… У Хуррем была своя особая мудрость, она не боялась говорить откровенно и не воспринимала Сулеймана как хозяина, к которому нужно ползти от самой двери на коленях. Нет, равным не считала, знала свое место, но и пресмыкаться не желала.
Гордых наложниц полно, немало было и таких, что предпочли кожаный мешок и воды Босфора, но с ней иначе.
Любознательных у него еще не было, были умные, хитрые, ловкие, любопытные, но их интересы ограничивались гаремом, даже у валиде, которая была просто образцом мудрой женщины.
А потом произошло чудо: Хуррем не просто слушала, она тоже росла вместе с султаном, пусть всегда на ступеньку ниже, но уже не на десять, пусть всегда на шаг позади, но ведь не глупо в сторонке.
Когда Ибрагим это понял, только посмеялся: что может женщина вне гарема? Ничего. Она смогла, училась рассуждать, мыслить логически, предвидеть ходы противников, как в шахматах. Училась дипломатии. А еще искала свое место, не желая быть только матерью султанских детей.
Хуррем рожала детей – в следующем году Михримах и Абдуллу, потом Селима, Баязида и через несколько лет Джихангира. Пятерых за пять лет, и шестого чуть позже.
Сулейман больше никого не брал на ложе, постепенно его жизнь сосредоточилась на одной-единственной, что не могло не вызвать зависти к ней.
В одном Сулейман не мог (и не хотел) помочь Хуррем – в гаремных войнах. Эту заповедь Селима он соблюдал строго: гарем – место запретное даже для Повелителя, стоит один раз вмешаться в женские разборки, завязнешь, как в болоте, – по уши и навсегда.
Но пока была жива валиде Хафса Айше, она справлялась сама. Мудрейшая женщина сумела держать гарем даже тогда, когда тот стал не нужен, ведь у Повелителя теперь была одна женщина.
Сулейман видел, что мать больна, понимал, что долго не протянет, и с ужасом ждал этой минуты. Не только сыновья любовь заставляла переживать, но и опасения из-за последствий. Этот совет дала валиде, дала тайно, чтобы никто не воспротивился, чтобы не добавить ненужного противостояния и ненависти:
– Женись.
Сулейман даже не сразу понял:
– Жениться?
– Да, на Хуррем. Все равно она главная и единственная, никакая другая не сможет править гаремом. Я не люблю и никогда не любила Хуррем, но это лучший выход.
– Но султаны не женятся, тем более на освобожденных рабынях.
– Она не рабыня, ее не продавали, но дело не в том. Мой сын, вы уже столько раз нарушали запреты ради этой женщины, что еще одно нарушение, которое сделает невозможным бунт в гареме, вам простят.
– И поставить Хуррем во главе гарема?
– Да, она не тронет Махидевран, я знаю. И остальных не обидит.
Валиде дала еще один совет, удививший Сулеймана:
– Не допустите открытой вражды между Хуррем и Ибрагимом, они рядом не уживутся.
Да, Ибрагим и Хуррем уже противостояли друг дружке, но это султана лишь забавляло. Неужели все так серьезно?
Он привык доверять интуиции матери в том, что касалось взаимоотношений между людьми, возможно, она совсем не разбиралась в политике и еще меньше в античной философии, понятия не имела, кто такие Платон и Аристотель, но Хафса Айше была прекрасным психологом. Уж в том, как поладить со всеми и всех поставить на свое место, заставив считаться друг с другом, она была докой.
Но валиде не могла повлиять ни на Хуррем, ни на Ибрагима. Как оказалось, не мог и Сулейман. Распря между ними продолжалась. Хуррем и Ибрагим не сталкивались открыто, однако каждый порочил другого перед султаном.
Ибрагим просто презирал наложницу, совавшую нос не в свои дела, и не скрывал своего презрения. Как может женщина, не получившая никакого образования и ничего не видевшая вне стен гарема, рассуждать о мире, о жизни, о политике?! Именно это презрение визиря и сгубило, он мысли не допускал, что Хуррем способна с ним, таким всезнающим, мудрым, опытным, соперничать.
Борьба за власть по-семейному
Сыновья должны бы радовать, ведь они твое продолжение, твоя кровь, а приносят боль. Соперничество между Баязидом и Селимом началось, кажется, с тех пор, как они сделали свои первые шаги по земле, и никогда не закончится. Баязид на год младше, но всегда старался доказать, что не хуже брата.
Этого Сулейман не понимал никогда. Зачем, разве и без того не ясно, что Селим лентяй и сибарит? Шехзаде любит только себя и развлечения. Нет, еще свою Нурбану.
Два взрослых сына, а поговорить можно только с дочерью. Хорошо, что Михримах не менее умна, чем была ее мать Хуррем.
– Михримах, как матери удавалось сдерживать соперничество сыновей?
Дочь задумалась, потом тяжело вздохнула:
– Она не сдерживала, просто обещала Баязиду проклясть его, если поднимется против вас или брата. Материнское проклятье самое страшное, Баязид обещал при ее жизни не делать ни шагу.
– А отцовское разве легче?
Михримах тревожно вскинула на отца глаза:
– Вы готовы проклясть Баязида?
Он смутился, словно застигнутый за чем-то недостойным:
– Я просто пытаюсь понять, как можно обуздать твоего брата.
Михримах умна и чутка, она прекрасно поняла, что выразила желание Повелителя точно: он готов проклясть, если придется. А если не проклясть, то казнить, как казнил Мустафу.
Пыталась заводить разговор о том, что стоило бы отменить проклятый закон Фатиха, тогда шехзаде не будут так драться за власть, ведь этот закон повелевает получившему ее попросту уничтожить остальных. Сулейман хмурился:
– Твоя мать все время доказывала мне это же, но перед смертью наказала применить закон к посмевшему восстать сыну.