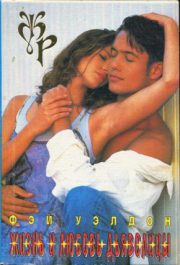— У нас есть кто-нибудь в Гринвейзе? — Так называлась тюрьма, где отбывал срок Боббо.
— Специалистка по изотерапии и секретарша начальника тюрьмы. А что?
— Хорошо бы мне с кем-нибудь из них познакомиться.
— Я бы попробовала начать с изотерапевта, — сказала сестра Хопкинс бодро. — Ее ребенок ходит к нам в ясли. Она оставляет его очень рано — для нее сделано исключение. Способная художница, мечтает устроить выставку. Звать — Сара.
Руфь встретилась с Сарой за чашечкой кофе в тихом, малопосещаемом кафе. Ее интересовал Боббо.
— Он понемногу успокаивается, — сказала Сара, — наконец-то!
— Наконец?..
— После оглашения приговора он на время впал в довольно-таки буйное состояние. Типичная паранойя, разумеется. Всём рассказывал, что судья подкуплен. По-моему, ему самоё место в Лукас-Хилле. Грань между безумием и криминальностью так условна!
— Но в Гринвейзе все же есть преимущество: оттуда выходят, — сказала Руфь.
— Да, в конце концов выходят, — согласилась Сара. Это была темноволосая, полнолицая красавица. Кофе она пила только черный, чтобы не набрать калорий, и от датского Печенья наотрез отказалась. По Сариным наблюдениям, Боббо сейчас пребывал в несколько подавленном состоянии. Она судила по тому, какого цвета соломку он выбирает, чтобы плести корзины на занятиях по изобразительному искусству. Вопреки ее уговорам брать яркие, чистые цвета он упорно цеплялся за болото и хаки. А посетители совсем выбивают его из колеи.
— Много посетителей?
— Да навещает иногда какая-то блондиночка.
— Дети?
— Нет. Может, и к лучшему, что нет. И без того скверно: после ее визитов он сам не свой. Уставится в одну точку и так сидит целыми днями.
— Может, лучше вообще прекратить эти посещения? Написал бы ей и попросил больше не приходить. Знаете, это как дети в больнице: гораздо быстрее привыкают, когда не видят родителей.
Сара нашла, что это правильная мысль. Она обязательно донесет ее до Боббо. У нее с ним вообще-то довольно теплые отношения. Они вместе что-нибудь сочинят в четверг, на лекции по моральному обновлению личности.
— Смотри-ка! Вполне приличная, кажется, тюрьма, — сказала Руфь.
— Просто отличная! — сказала Сара. — И почему там столько самоубийств — ума не приложу!
Руфь написала ответ в клинику «Гермиона», сообщив, что согласна на их условия, но просит по возможности обеспечить ей финансовую поддержку со стороны заинтересованных научных учреждений. Никогда нельзя показывать другим, что деньги тебя не интересуют.
Она прощалась со своим телом: в прихожей, где все держали сапоги и туфли, она разделась донага и стала пристально изучать себя в зеркале — единственном на территории коммуны, которое ей удалось обнаружить. Зеркало было прислонено к стене — громадное, георгианское, в золоченой раме. Стекло темное, в точечках, и местами — там, где по нему нет-нет да и заденут тяжелым башмаком — облупленное, с тонкой трещиной от одной стороны до другой; но центральная часть еще достаточно сохранилась, чтобы давать верное отражение.
Она разглядывала это тело, имевшее так мало общего с ее подлинной сутью, и ясно сознавала, что будет рада распрощаться с ним навсегда.
— Вот это я понимаю! — сказала пигалица Сью, специалистка по приготовлению «мюсли», которая вошла, чтобы снять урожай пророщенных бобов, тут же в прихожей, на темной полке. — Здорово иногда скинуть с себя всю одежду, правда? У тебя такое роскошное, сильное тело!
— Мне, наверное, придется отсюда уехать, — сказала Руфь.
— Как? Почему?
— Я устала все время быть на людях.
— Но почему? Ты что-то скрываешь? Скажи, самой же легче будет! Мы все — твои подруги. Мы всегда придем к тебе на помощь. И нечего глядеться в зеркала! Загляни в глаза других женщин, и ты увидишь свое настоящее отражение. Что зеркало! Там видно одно лишь тело. А дух? А женская душа? Сколько раз я просила вышвырнуть это поганое зеркало отсюда, но всем вечно не до того!
— Вещь-то ценная. Антиквариат, — промолвила Руфь.
И тут Сью схватила лопату и метнула ее в зеркало — и разбила его. Осколки посыпались на пол, и там они еще немного попрыгали и позвенели — верный признак, что разбитое зеркало было из хорошего, ртутью посеребренного стекла, — и наконец замерли.
— Тогда оно нам тем более ни к чему, — сказала Сью. — Хватит делать из женщин рабов имущества, хватит навязывать им мужскую шкалу ценностей. Не позволим!
Привлеченные звоном стекла, женщины быстро собрались чуть не в полном составе — в коммуне не было телевизора, и потому любая заварушка немедленно собирала толпу зрителей, — и Сью сообщила им скандальную новость о том, что Руфь их покидает. Они были страшно обеспокоены ее дальнейшей судьбой.
— Неужели можно по собственной воле, — восклицали они, — отказаться от любви и покоя, от животворящего блага женского братства — вернее, сестринства?
Но Руфь считала, что можно, и очень даже запросто. Ее заставили заплатить 27 долларов за пользование прачечной и конфисковали все ее скудные пожитки, включая будильник и кожаные садовые перчатки — за то, что она не предупредила их заранее, — и отказались подвезти ее до станции, находившейся в трех милях отсюда. Руфь пошла пешком. Ее провожали враждебные взгляды.
30
Мэри Фишер живет в Высокой Башне и жалеет об этом. Она жалеет, что живет вообще. Она — без тени кокетства — хотела бы умереть. Она хочет слиться со звездами, с пеной морскою, хочет, чтобы костер ее жизни догорел и погас — навсегда. Даже на грани самоубийства она неисправимо романтична.
Отец Фергюсон говорит:
— Так больше продолжаться не может, это грех.
— Ты прав, — говорит Мэри Фишер. Она теперь верит в ад. Она уже там, и знает, что заслуженно. Ведь она вступила в связь со священником!
— Ты совратила меня, — говорит он.
— Да, да, ты прав, — говорит она покорно. Он укладывает свою холщовую сумку и идет проведать Элис Эплби, чьи романы успешно продаются повсюду и чье всепонимающее милое лицо смотрит с каждого книжного лотка. Любовник он пока не ахти. Так ведь и практики у него почти никакой. Возможно, Элис Эплби поможет ему проявить себя.
Мэри Фишер получает от Боббо письмо с просьбой больше его не навещать. «Наши свидания мешают мне обрести душевный покой…» Мэри Фишер кажется, что он каким-то образом узнал про Гарнеса. Эта мысль никак не идет у нее из головы. Еще одна жертва на ее совести!.. Она перестает ходить в тюрьму.
Она стоит у окна в Высокой Башне, и ей хочется прыгнуть вниз. Но разве она может себе это позволить? Она загнана в угол всем, что она лишь недавно поняла и открыла в себе, включая способность испытывать добрые чувства. Что будет с ее матерью, доживающей свой век, что будет с Энди и Николой, у которых еще все впереди? Мэри Фишер должна остаться с ними, чтобы любить их, потому что больше их любить сейчас некому, и, кто знает, быть может, не только сейчас. И какой же она подаст им пример, если сама отвергнет дарованную ей жизнь? Это как эстафетная палочка: ее нужно передать очень чисто, «грамотно», иначе эстафета будет немедленно остановлена. Да, любовь все равно ее погубит, но своим способом и в свой срок.
Мэри Фишер нездоровится. Она смотрит на себя в зеркало и видит, что волосы ее стали жидкими, лицо посерело. Она исхудала. Внизу, в деревне ее не отличишь от других таких же суетливых, стареющих тетушек, цепляющихся за жалкие остатки жизни. И ничей взгляд на ней не задерживается.
Из банка приходит бумага с уведомлением, что у нее на счете сильный перерасход. Нужно выставлять на продажу Высокую Башню. Она ничуть не жалеет об этом. Гарсиа и Джоан — другой прислуги уже нет — она говорит, что больше жалованья они не получат.
— Вы не можете так поступить, — говорит Гарсиа.
— Отчего же, могу, — говорит она, глядя ему прямо в глаза. Он отводит взгляд. Она сама удивляется, почему она не поступила так давным-давно. Чего боялась? Только и нужно было посмотреть правде в лицо, честно признать свою вину.
— Где же мы будем жить? — спрашивают дети и старая миссис Фишер. Они вдруг стали такими присмиревшими, трогательными. — И как мы будем жить?
— Как все люди, — ответила она. — В другом доме, поскромнее. На это денег хватит.