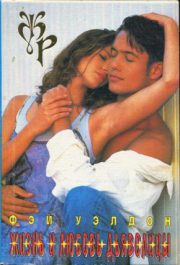— Скорее всего, — ответил Боббо.
— Бедные женщины! — заметила Бренда, и Энгус смущенно кашлянул.
А вот и Руфь: с приветливой улыбкой она сошла вниз и стала разливать по тарелкам суп.
Без малого двенадцать лет прошло с тех пор, как Боббо впервые встретил Руфь. Она тогда работала у Энгуса в его машинописном бюро. В то время Энгус торговал канцтоварами, и очень успешно: он уже вышел на финишную прямую к своему второму миллиону, но тут ввели налог на добавочную стоимость, и от этого миллиона остался один пшик. Так уж совпало, что знакомство их произошло в оседлый период жизни Энгуса и Бренды, которые по большей части кочевали из одной гостиницы в другую; а теперь они поселились в доме, к вящей радости Боббо, хотя сам он в это время учился в другом городе и дома бывал только наездами. Чтобы досконально освоить бухгалтерское дело, требуются годы и годы, поэтому сын — а, как правило, это сын — попадает в затяжную финансовую кабалу к собственному папаше.
Руфь отличалась обязательностью, исполнительностью и собранностью в работе и не страдала широко распространенным среди девушек недостатком — без конца смотреть на себя в зеркало. Правильнее сказать, она обходила любое зеркало за километр. Она жила отдельно от своей семьи, хотя ей не было еще и двадцати. В один прекрасный день ее спальня понадобилась отчиму, чтобы разместить там модель железной дороги — другого места в доме не нашлось. Просто поделить комнату между ней и железной дорогой было бы слишком рискованно, учитывая ее патологическую неловкость, с одной стороны, и хрупкость миниатюрных моделек — с другой. Поэтому кто-то из них двоих должен был уступить Место, и чисто технически проще было выселить Руфь: попробуй-ка заново смонтировать все эти рельсы, узлы и разъезды — не один месяц провозишься, а деваха молодая всегда где-нибудь пристроится.
Так Руфь попала в общежитие, в котором обитали в основном молоденькие продавщицы — а это ведь особый тип девушек: все тоненькие, стройненькие, хорошенькие. Изящные пояски, которые они с легкостью застегивали на своих осиных талиях, могли бы пригодиться Руфи разве что как подвязки для чулок, и то не факт.
Момент расставания с родительским домом прошел без лишних эмоций: всем, включая саму Руфь, было очевидно, что здесь ей давно стало тесно. Она вообще избегала драм. Ее школьными учителями были монашки, скорее суеверные, чем набожные, и к тому же не слишком образованные; основной упор делался на то, чтобы привить каждой девочке добродетели будущей жены и хозяйки дома. Они даже экзаменов не сдавали — только по стенографии и машинописи. Воспитание велось в духе стоического отношения к жизни, а любые проявления эгоизма и слезы напоказ сурово осуждались.
Сводные сестры Руфи, Миранда и Джослин, были на хорошем счету в школе Св. Марфы. Особенно заметные успехи они делали в греческом танце, и в конце каждого семестра выступали на традиционном школьном концерте, радуя глаз своими грациозными движениями. Руфь тоже принимала участие в концерте — она передвигала декорации. «Вот видите, — говорили монашки, — нет бесполезных людей, у каждого свой талант. Каждому найдется применение в этом мире, в сем чудном творении Господа нашего!»
Вскоре после того, как Руфь переселилась в общежитие, ее мать ушла из дома. Возможно, она тоже почувствовала, что еще немного — и ее саму задвинут в какой-нибудь угол, поскольку места для железной дороги требовалось все больше и больше. А может, она начала страдать от катастрофического снижения сексуальной активности у мужа — вещь в общем-то обычная для человека, целиком посвятившего себя любимому хобби. Или, может, все было иначе — так, как представляла себе Руфь: едва старшая дочь скрылась с глаз долой, мать наконец вздохнула свободно. Короче говоря, она сбежала с горным инженером в Западную Австралию, на другой край света, захватив с собой Миранду и Джослин. А отчим Руфи тут же подыскал себе другую женщину, у которой были не столь высокие требования, но которая, однако, никак не могла понять, почему Руфь продолжает ходить к ним в дом. В конце концов, она же не кровная родственница, и вообще никакая не родственница.
Вся эта печальная история стала известна Бренде со слов Энгуса, и она прониклась к девушке сочувствием и жалостью.
— Надо протянуть ей руку помощи, — сказала Бренда. Именно Руфь, и никто другой, снимала трубку телефона, когда бы Бренда ни позвонила — рано утром, в конце рабочего дня или в обеденный перерыв, — всегда неизменно вежливая, выдержанная, предупредительная. Остальные девицы вечно носились по магазинам, покупая какие-то шарфики, сережки, тени для век и Бог еще знает что, и все во время работы, то есть за счет Энгуса (то-то он так часто становился банкротом), а вот Руфь — никогда.
— Я сама когда-то была гадким утенком, — призналась Бренда Энгусу, продолжая начатый разговор. — По себе знаю, каково это!
— Она не гадкий утенок, — возразил Энгус. — Гадкий утенок рано или поздно превращается в прекрасного лебедя.
— Я вот что думаю, — сказала Бренда. — Девочке сейчас нужнее всего нормальный дом, ведь у нее переломный момент в жизни. Может, пусть поживет у нас? Я ей помогу, чем смогу — и не такие устраивают свою жизнь, а она зато немножко меня разгрузит: где-то приберет, что-то сготовит, разумеется, вечером, после работы. И гладить я больше не в силах, надо срочно кого-то нанимать! Разумеется, жить она будет не бесплатно. Она девушка гордая, из милости жить сама не захочет. Пусть отдает нам часть жалованья — ну, скажем, треть.
— Да у нас и так тесно, — сказал Энгус. — Куда мы ее поселим?
И действительно, дом у них был очень маленький. Они сознательно выбрали такой, иначе им было бы в нем неуютно. Но Бренда с готовностью объяснила, что она имеет в виду комнату Боббо — он тогда еще учился в колледже, и в течение всего семестра его комната пустовала.
— Это просто глупо, — заявила Бренда. — Незанятая комната — это глупость и расточительство.
— Ты так привыкла жить в гостиницах, — пошутил Энгус, — что теперь рассуждаешь, как гостиничный администратор. Ладно, ладно, я все понял — мысль интересная.
Бренда и Энгус единодушно придерживались того мнения (хоть и не любили его высказывать вслух), что детство Боббо несколько затянулось и пора бы уже ему перестать висеть на шее у родителей — давным-давно пора! И комнату неплохо бы освободить, чтобы они могли распоряжаться ею по своему усмотрению. Слава Богу, не маленький! А если уж понадобится свободную комнату чем-то заполнить, Руфь это сделает лучше, чем кто бы то ни было.
— В крайнем случае, Боббо поспит на кушетке, — сказала Бренда. — Ничего страшного.
Боббо был удивлен и обижен, когда, приехав домой на Рождество, услышал, что отныне он будет спать на кушетке, и увидел, что его старые школьные учебники, всегда стоявшие у него в шкафу, уступили место разбитым башмакам новой жилицы.
— А ты считай, что Руфь тебе как бы сестра, — посоветовала Бренда. — Могла ведь быть у тебя сестра?
Но поскольку Боббо был единственным ребенком в семье, образ воображаемой единокровной сестры, как это нередко случается, вызвал у него волнующие ассоциации на тему кровосмесительства, так что слова матери он мысленно воспринял как напутствие и, дождавшись глухой ночи, решил осуществить свои фантазии и тихонько пробрался в свою же бывшую кровать — в конце концов, это его законное место! Руфь была теплая, мягкая и широкая, не то что кушетка — холодная, жесткая, узкая, как солдатская койка. Руфь ему понравилась. Она не смеялась над ним, не говорила, что он этого не может, того не умеет, как это делала Одри Сингер, тогдашняя подружка Боббо. Боббо был очень доволен собой — молодец он, что придумал соблазнить Руфь, эту необъятную, на все готовую громадину. Подумаешь — Одри, больно много воображает! Это был акт сексуального самоубийства, разыгранный с подлинной страстью. «Вот, полюбуйся, что ты наделала! — восклицала его душа, обращаясь к неблагодарной Одри. — Полюбуйся, до чего ты меня довела! До Руфи — ниже падать уж некуда!» — «Полюбуйся, — теперь его душа с укором обращалась к матери, решив, по-видимому, убить всех зайцев сразу, — вот чего ты добилась, вышвырнув меня из моей комнаты, из моей законной кровати. А я все равно влез обратно, и так будет всегда, хоть крокодила мне туда подложи!»
Такой неожиданный поворот событий вполне устраивал Руфь. Она бережно прижимала к сердцу тайну своей неожиданной любви, и впервые в жизни почувствовала себя почти такой, как все, только ростом повыше — а если лечь, так и вовсе разницы нет. И когда новая жена отчима позвонила на Рождество справиться, как она поживает, ей не пришлось кривить душой, отвечая, что поживает она просто замечательно, после чего у них исчезли последние угрызения совести и они с облегчением вычеркнули ее из памяти. Примерно в это же время пришло и письмо от матери — последнее письмо, поскольку, объясняла ей мать, ее новый муж настаивал, чтобы она раз и навсегда порвала с прошлым: дело в том, что оба они теперь исповедовали удивительное новое учение, согласно которому жена во всем должна быть послушна воле мужа. Через смирение и кротость, писала ей мать, обрящешь мир в душе своей. Еще она посылала ей свое материнское благословение (и благословение Учителя, к которому ее допустили, чтобы поговорить о Руфи и получить его мудрый совет: Учитель суть воплощение Божественной воли на земле, как жена — проводник мужниной воли) и благодарила судьбу за то, что Руфь уже взрослая и в состоянии сама о себе позаботиться. Будущее Миранды и Джослин внушало ей куда больше тревог, ведь они еще так юны, но Учитель обнадежил ее, сказав, что и тут все наладится. Это письмо было последним любящим прости.