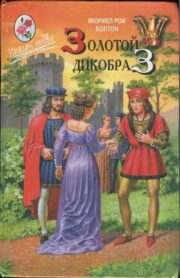Что же восхищает Карла в англичанах, поведать ему так и не дали. Друзья попросту отказались слушать. Со всех сторон посыпались шутки, голос Карла был заглушен смехом. Мнение было единодушным — если француз вдруг начал восхищаться англичанином, значит, это мертвый англичанин.
Как не терпелось им тогда броситься в атаку, хотя до рассвета оставалось еще около трех часов. О сне никто и не помышлял. Хотя бы просто прилечь на охапку скошенной травы, этого не было и в мыслях, ведь все они были слишком возбуждены, им хотелось петь или в крайнем случае просто покричать. Возможно, на исходе была их последняя ночь на бренной земле, и им не хотелось проводить ее во сне. К тому же не хотелось вылезать, а потом вновь облачаться в тяжелые доспехи.
Сверху начало понемногу моросить. Огромные сучья в кострах зашипели, вверх взметнулись черные столбы дыма. Сердито отплевываясь от дождя, взлетали высокие языки пламени, отражаясь в золотых и серебряных доспехах, высвечивая в ночи то там, то здесь яркие плащи и не менее яркие знамена. Священной французской орифламмы[8] среди них не было, она появится утром непосредственно перед атакой. Неустойчивое пламя быстро гасло, и тогда все погружалось во мрак: плащи, доспехи, которые в темноте приобретали темный, даже зловещий вид. Только глаза и лица французских солдат продолжали светиться своим особым внутренним светом, светом надежды и нетерпения. Солдаты уже видели изрядно потрепанную армию короля Генриха, оттесненную на север, к Кале, сейчас они стояли на ее пути к проливу, не давая возможности отплыть неприятелю в Дувр. Таким образом, французская армия находилась в своеобразных тисках между англичанами и Англией, и Генриху, захоти он добраться до дома, нужно было прокладывать себе дорогу через их укрепления.
Будь Карл Орлеанский и остальные его сподвижники чуть более опытными и осторожными, они бы продолжали оставаться на тех же позициях. И тогда малочисленная английская армия, отрезанная от источников снабжения и не имеющая возможности отступать, согласилась бы на самые унизительные условия мира. Генрих уже посылал парламентеров с предложением перемирия. Он обязывался, если ему и его армии позволят вернуться в Англию, возместить ущерб, который нанес французам в Нормандии. Но его посланцев просто выбросили из штабного шатра французской армии под улюлюканье и смех. Такой бесплодный мир Франции был не нужен. Полный отказ короля Хэла от своих идиотских притязаний на корону Франции — вот чего они хотели и не сомневались, что получат желаемое в пятницу после полудня 25 октября 1415 года. В рыцарских наставлениях и балладах о битвах ничего не говорилось об осмотрительности и осторожности. Французские бароны всегда преклонялись перед безрассудной отвагой в бою, а добиваться победы ценой каких-то осторожных маневров, об этом Карлу Орлеанскому и д’Альберу даже в голову не приходило.
Карл вглядывался вперед, перед ним простиралось поле, где в темноте притаились враги, он еще раз повторил про себя план утреннего сражения. И увидел себя во главе авангарда кавалерии. Они обойдут с флангов передовые ряды английской пехоты — кавалерии у тех вовсе не осталось. Всадники пройдут сквозь массу пеших воинов с легкостью, с какой меч рассекает оплавленную свечу, а затем атакуют их с тыла. И, прежде чем те сообразят в чем дело, прежде чем поймут, что, собственно, произошло, они будут полностью окружены. А когда восемь тысяч воинов — а именно столько насчитывает сейчас английская армия — окажутся в кольце сорока тысяч французов, победить их будет несложно.
Со стороны англичан не было слышно ни смеха, ни ликующих возгласов. Это было усталое войско, истосковавшееся по дому. Но войском этим руководил Генрих, руководил умно и умело. В походе с ним произошла метаморфоза — из распутного, легкомысленного принца он быстро и незаметно превратился в хладнокровного, строгого короля. Свою миссию, ниспосланную, как он считал, свыше, Генрих видел в том, чтобы покарать французов за их злодеяния. Он тоже всматривался вперед, туда, где находились враги, и видел яркие отблески костров в лагере французов, слышал их громкие крики, смех и пение. Генрих понимал, насколько французы уверены в победе. Он хорошо понимал также, сколько их противостоит ему. Но ему на руку были глупое безрассудство и юношеский задор предводителей французов. Те упорно лезли в драку, а надо бы методично осаждать англичан, и вскоре Генрих сам бы запросил пощады. Но они жаждут битвы, битвы в открытом поле. Хорошо, пусть грянет битва. У Генриха был свой план сражения, и план этот не имел ничего общего ни с рыцарством, ни с поэзией.
Забрезжил рассвет. Хмурый, серый, бессолнечный. Все небо затянули низкие тучи. Поля Азенкура поливал мелкий холодный назойливый дождь.
Посмотрели французские воины на хлябь, разверзшуюся перед ними, и неясная пока еще тревога в первый раз закралась в их сердца. Их предводители собрались вместе и о чем-то оживленно толковали. Невидимый и неслышимый призрак битвы при Креси[9] заметался по стану французов.
— Так уже было однажды. Вспомните, что случилось при Креси, — шептал он на ухо солдатам, и те внезапно содрогнулись от дурного предзнаменования.
А Генрих, наоборот, ожил. И этот дождь, ливший всю ночь напролет, и эта непроходимая грязь на полях — все было для него знаком свыше. Все вдохновляло его. Он выехал перед своим авангардом, куда поставил английских и шотландских лучников. Мысленно послав молитву Господу, он сделался на мгновение печальным, склонив долу свое красное лицо и ссутулив плечи. Но уже в следующее мгновение выпрямился и звенящим голосом, в котором для его воинов заключалась особая магия, прокричал:
— Именем Всемогущего Бога, знаменосцы Святого Георгия, вперед!
И сразу же в сочащееся влагой небо высоко взметнулись штандарты Святого Георгия. Лучники опустились на колени. Каждый взял щепоть грязи с поля и помазал ею губы в знак того, что все они пыль Господня, в пыль и уйдут, если падут на поле биты. Ничто в облике этих лучников не смогло бы тронуть восторженное сердце француза. Никакой романтики и поэзии не было в их грязных кожаных доспехах. Босые ноги облеплены грязью. Они сняли обувь, чтобы легче было держаться на ногах в этой непролазной грязи.
Карл Орлеанский, Бурбон, д’Альбер и остальные бароны — вся высшая знать Франции — опустили забрала и наклонили головы, чтобы стрелы, летящие к ним, словно хищные злые птицы, не смогли найти уязвимого места. Прежде чем отдать приказ к наступлению герцог Орлеанский с минуту помедлил, обозревая ряды англичан. С удивлением он обнаружил, что каждый лучник имеет острый длинный прут, на несколько футов выше его головы. Воткнув этот прут глубоко в грязь перед собой, лучник стоял за ним, будто хотел спрятаться за тонким деревцем без листьев. Поскольку такой прут был у каждого лучника, передовая линия англичан, что пересекала все огромное поле, напоминала длинный забор, сооруженный из острых кольев. Расстояние между кольями составляло около двух футов, и позади каждого стоял человек. Смешная защита от тяжелой кавалерии французов, не правда ли? Но ни Карл, ни Бурбон, вообще никто из них не засмеялся. Воистину дурной, зловещий знак.
А сырые острые колья поблескивали на тусклом солнце, а за каждым из них молча стоял человек и ждал, изготовив свой длинный лук.
Приподнявшись на стременах, Карл поднял высоко над головой копье и дрожащим от волнения голосом возгласил:
— Во имя Господа Бога, вперед, Франция!
И атака тяжелой кавалерии началась, как он и планировал.
Но оказалось, что кавалерийская атака в его планах и на поле Азенкура — две совершенно разные вещи. То, что в представлении Карла должно было со свистом нестись навстречу врагу, медленно и тяжело тащилось. Кони по колено увязали в густой жиже, и только боль от английских стрел заставляла их вообще двигаться куда-либо. А двигаться следовало вперед. И если это удавалось, то непосильная ноша была для них еще хуже вражеских стрел.
Французы медленно ползли вперед. Причем каждый думал не столько об атаке, сколько о том, чтобы не упасть. Ибо падать было нельзя. Вес великолепных, роскошных доспехов неумолимо тянул вниз. А там внизу человек захлебывался жидкой грязью. Падение означало смерть. Бесславную смерть.
Воинам, идущим следом, было легче передвигаться. И они шли, тесня передних, не подозревая об этом. У авангарда было два варианта: либо воины тонули в море жижи, либо, счастливо избежав этой подобной печальной участи, оказывались прижатыми к английскому «забору», где также погибали, ибо там было скользко, слишком скользко.